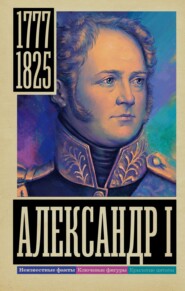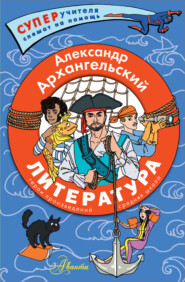По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бюро проверки
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мама молча ставила на стол тарелку, садилась напротив и обиженно смотрела, как сыночек раскурочивает блин, кучкой сгребает мясную начинку, вилкой очищает тесто от сметаны и сердито жуёт. Или сдвигает котлету на край и питается одной картошкой. Вермишель не поддавалась дрессировке и не желала отлипать от фарша, но я уныло ковырял в тарелке, пока не справлялся с задачей.
А в воскресенье поднимался по будильнику – старому, пузатому, с большими металлическими ушками, в которых бодро колотились молоточки. Не зажигая света, пробирался в ванную, подносил ко рту зубную щётку и в ужасе отдёргивал: нельзя. Почему нельзя? А потому что запретили.
Обычно исповедовал отец Георгий. Жизнерадостный и не любивший тратить время понапрасну. Посверкивая золотом коронок, он вопрошал: «Ну шо? и словом, так сказать, и делом, так сказать, и помышлением?», и, не слушая ответа, радостно вздымал епитрахиль, как женщины вздымают простыню, стеля постели. Но однажды я попался в лапы настоятелю, отцу Мафусаилу. Тот слушал тяжело, давяще, встречными вопросами не помогал. И вдруг, не дав договорить про осуждение и блудный помысел, шумно, с охотничьей страстью принюхался и перебил: «Так, а почему ты пахнешь мятой? ты что ли ел перед причастием?» «Не ел, – растерянно ответил я, – это у меня зубная паста». Настоятель рассердился (вообще он был гневлив не в меру; как выйдет на амвон, как гаркнет: «Кто не исповедался – да не приступит к чаше!», лицо становится апоплексически бордовым, и бабки приседают от восторга). «Это что ж такое, это ж как!» – он грозно свёл густые брови. И сверлящим шёпотом устроил выволочку: «Ты же ж ротом принимаешь таинство, какая паста?»
В общем, зубы до причастия не чистить и даже рот водой не полоскать, не соблазняться.
Это меня удивило, но если решил соблюдать – соблюдай. Ибо – как же мы тогда любили это пафосное слово «ибо»! – главное было в другом. Не в казарменных привычках настоятеля, не в чужих и непонятных прихожанах, не в суетливых бабульках – «Мань, ты на причастие благословилась? у кого?» – и не в милом равнодушии отца Георгия, а в напряжённом ожидании итога. Стоишь на долгой ранней службе. Сердце тает, слёзы душат. Священник закрывает царские врата, как закрывают свежевымытые окна, отец диакон ставит перед ними золотой подсвечник, похожий на рыцарский меч; все отрешённо молчат, только мечется под куполом суровый голос горбуна, читающего нараспев молитвы ко святому причащению. И кажется, не доживёшь до той минуты, когда распахнутся врата и священник вознесёт над головами чашу:
Со страхом Божиим и верой приступите!
Смерть опять не состоялась! Вечность рядом! В полушаге от тебя. Сложи крестообразно руки и полузакрой глаза. Нырни в людской поток. И медленно, как в тонком сне, плыви навстречу… Тому, кто никогда не причащался, не понять. С чем это можно сравнить? Взмах качелей, уносящих к небу? Судорожный вздох, когда выныриваешь с глубины? Первое утро после тяжёлой болезни – температура спала, солнце светит, и от этого щенячье счастье? Всё не то и даже отдалённо не подходит.
5
А ведь это всё Сумалей М.М. Его работа. Хотя я так и не успел узнать, был ли Михаил Мироныч «практикующим» – то есть ходил ли на службы, исповедовался и причащался. С ним было бесполезно говорить на эти темы.
Прибился я к нему почти случайно. Аспирантам-первогодкам полагались краткосрочные бессмысленные семинары. Выбор был столовский, небогатый: на первое – глухой как пень, и страшно глупый Константин Трофимович Минаев, невнятно излагавший ленинскую теорию отражения. На второе – молодой Андрей Касимов; он вёл неформальную логику, в которой я мало что смыслил. Зато на сладкое достался многолюдный семинар у Сумалея, «Философские аспекты урбанизма», общий для всех гуманитарных факультетов.
В аудитории припахивало плёнкой, от проектора тянулась дымная полоска, на экране вспыхивали слайды. Плёнка гэдээровская, «Орвохром», цвета размытые, поблёкшие. Михаил Миронович, сухой и тёмный, словно прокалённый на огне, пояснял картинки резким голосом. Вот, коллеги, петушился он, храм святителя Николы в Кузнецах. Здесь, коллеги, царские врата, а тут, извольте видеть, поздний, хорошо сохранившийся иконостас, а этот приподнятый пол – солея. Литургия начинается со слов «Благословенно царство», в сердцевине дьякон произносит «оглашенные, изыдите», и это значит то-то, то-то, то-то. Затем зачитывал обширные цитаты из философа-священника Флоренского про храмовое действо и закон обратной перспективы; а сейчас эстетику огня попробуем соединить с искусством литургического дыма.
После всех полковничьих ужимок диамата, пропылённых историков партии, дуболомных атеистов («у хрыстианстве бог членится на три части… а что ж вы смеётесь…») и великой дисциплины под названием «тыр-пыр» (теория и практика партийного строительства) – занятия у Сумалея возбуждали, как впервые выкуренная сигарета или как «Советское шампанское» в десятом классе, выпитое исподтишка на пятерых. Подволакивая ногу, Михаил Миронович ходил вдоль рядов; голос его звучал то острее, то глуше, то накатывал справа, то слева, словно бы лектор – везде и нигде, как эта самая завеса фимиама, создающая эффекты перспективы.
Он мог уклониться от темы и заговорить о чём угодно – о европейской философии истории или о модном хронотопе Бахтина. А мог прочесть своим взвивающимся голосом стихи кого-нибудь из наших современников. Причём всегда подпольное, неподцензурное, как минимум – по многу лет лежащее в издательстве. Особо нравился ему один стишок Глазкова, он читал его неоднократно и жмурился от удовольствия:
В стихах я Пушкина пониже.
И, вероятно, потому
Я не люблю, а ненавижу
Простую русскую зиму?.
Однажды Сумалей прочёл (на память!) непечатную поэму молодого автора Чухонцева, особо выделяя философские фрагменты:
Была компания пьяна.
И всё ж, друг дружку ухайдакав,
Как чушки, рвали имена:
Бердяев, Розанов, Булгаков.
А на другом занятии достал машинописный сборник Александра Межирова и, растягивая гласные, продекламировал:
И я
не то чтобы
слишком болею,
Не то чтоб усталость
доканывает меня,
А всё юбилеи стоят,
юбилеи,
Юбилейные какие-то времена.
После чего прищурился, причмокнул, стал похож на плотника, который ловко засадил одним ударом гвоздь: «Как стал писать Александр Петрович, как стал писать». И ушёл в петляющие рассуждения о том, что время резко изменилось. Не физическое время, а метафизическое! Дьявольская разница! Мы считываем время по-другому. Не так, как считывали пять или десять лет назад. Дни мелькают один за другим, а при этом ничего не происходит, хронотоп стремительно вращается вокруг своей оси и не может вырваться из собственного круга. Заметьте, аккуратно кашлянув, продолжил Михаил Миронович; заметьте, как меняется природа памяти: то, что было с нами год назад, может помниться гораздо ярче и отчётливей вчерашнего, при этом мы всё время что-то вспоминаем («тавтология, прошу пардону!»), любимый зачин разговора – «а помнишь?».
И если бы только у нас, где стоят юбилеи! В Соединённых Северо-Американских Штатах даже термин завели такой, «флэшбэк», не знаю, как перевести на русский. Когда герой все время вспоминает: что с ним было год назад, два года, три, что было в детстве… Термин, кстати говоря, был позаимствован у психиатров, так что пользуйтесь им осторожно. Флэшбэком называют острое воспоминание, которое вспыхивает в нас, тыкскыть, как молния. И больной теряет волю с представлением…
Но как бы далеко ни уносились мысли Сумалея, он неизменно возвращался к храму как семиотической модели мира. И без конца наращивал детали. Это конха, а это апсида. Деисусный чин. Иконостас. Престол. Я так увлёкся новым знанием о храмовом пространстве, что очень скоро смог водить библиотечных девушек в московские церквушки. Стоя сзади, снисходительно шептал на ухо: это называют ектенья… когда кадят (видишь, дымок выпускают), надо голову слегка склонить… да что же ты, Псалтыри не читала?! Девушки охотно впечатлялись и становились гораздо податливей.
Однажды я пошёл с очередной знакомой на вечерню. Служили размеренно, важно; затворились царские врата, настоятель театрально поклонился трём старушкам, и воцарилась гулкая пустая тишина. Девушка поглядывала на меня со смесью изумления, недоумения и страха. Я резко усилил эффект: сгорбился, ссутулил плечи, сделал просветлённое лицо и встал перед иконой Всех Скорбящих, закупоренной в серебряном киоте. Изображая сокрушённую молитву, с интересом разглядывал крестики, кольца и серьги на толстых цепочках, которыми, как бусами, была обвешана икона. Было в этом нечто дикое, туземное.
Вдруг на солею воробышком вспорхнул священник, старый, почти безбородый; пахло от него душистым мылом, сквозь которое невнятно проступал коньячный дух. Он опёрся подбородком на огромный серебряный крест и заговорил громовым голосом. Слушать его было некому – кроме старушек, меня и забытой подруги, имя же ея ты, Боже, веси. Но священник этого не замечал. Он говорил про то, про что обычно говорят на проповеди. Апостол Пётр доверился Христу, пошёл по морю. Вдруг испугался и отвёл глаза. Немедленно начал тонуть. Вот и мы, дорогие братья и сестры… Но так он это говорил, с такой последней силой, что по спине пробегали мурашки.
Закончив проповедь для нас двоих, священник замер, встал на цыпочки и троекратно осенил крестом, энергично, чуть ли не со свистом рассекая воздух.
Я пытался выбросить из головы коньячного священника, но почему-то ничего не получалось. Лодка, море, Христос – и апостол. Нужно быть там, где они. Почему? Я не знаю. Так надо, так правильно, точка.
Через месяц с небольшим (как сейчас помню, завершалась холодная осень семьдесят седьмого, всюду висели плакаты и флаги, в честь 60-летия Великого Октября; революция вступила в пенсионный возраст) я заявился к громогласному отцу Илье. Отстоял, как положено, службу, дождался окончания молебна, отпевания и завтрака священников. Отловил на выходе из храма и попросил крестить меня – без восприемников и записи в церковной книге, чтобы в универ не сообщили. Отец Илья стал смешно озираться, не подслушал ли кто; убедившись, что нет соглядатаев, он согласился. И ещё через неделю я стоял в натопленной крестильне (со священника катился градом пот, даже мне в льняной рубашке было жарко) и повторял, дрожа от восхищения, как повторяют рубленые современные стихи:
отрицаюся,
отрицаюся,
отрекохся.
В церкви, где меня крестил отец Илья, было очень хорошо. Все друг друга знали, были дружелюбны. Но служил отец Илья непредсказуемо – то на ранней, то на поздней, то по будням, а то вообще не являлся на службу; пришлось искать себе приход поближе и попроще. Со слишком жизнерадостным отцом Георгием и слишком мрачным настоятелем отцом Мафусаилом. Впрочем, к отцу Илье я тоже заезжал. Но гораздо реже, чем хотелось бы.
6
Тот аспирантский семинар у Сумалея был рассчитан на один семестр и завершился накануне католического Рождества. Впрочем, в семьдесят седьмом про католическое Рождество никто особенно не вспоминал, во всяком случае, в моём семействе; Новый год был единственной точкой отсчёта. Уже открылись новогодние базары, мужчины в заячьих шапках-ушанках тащили запелёнатые ели, женщины с полными сумками неуклюже скользили по накатанному льду, на снегу валялись мандариновые корки, из авосек торчали бутылки с «Советским шампанским», посверкивал лёгкий оскольчатый снег.
Михаил Миронович собрал самодельные слайды в коробку, завернул в бумажку жёлтый заграничный мел, похожий на тюбик с помадой, торжественно и суховато всех поздравил – с окончанием курса и ещё одним важным событием. (Всем полагалось догадаться, что он имеет в виду.) Помолчал, подумал и добавил: «Этсамое, зачёт по расписанию не предусмотрен, но будет доверительное собеседование. Обязать я не имею права, но если не придёте – будет, этсамое, нечестно. Жду вас после новогодних праздников… на какое же число назначить… пусть будет, для симметрии, седьмого января. Так сказать, от Рождества до Рождества. Красиво». Подошёл к холодным окнам и раздёрнул затемняющие шторы. При этом слишком резко поднял руки, повернулся – я увидел в вороте рубахи золотой нательный крест. Старинный, на тонком плетёном шнурочке. И это было как масонский знак, как тайное послание: тебе доверено, тебя включили!
Седьмого января он появился ровно в десять. Всех запустил в поточную аудиторию, поздравил с новым, одна, тыкскыть, тысяча девятьсот семьдесят восьмым годом от Рождества Христова, раздал машинописные вопросы, перед собой поставил термос, развернул газетку с бутербродами. В аудитории запахло колбасой, отвратительным зелёным сыром и лимоном. Сумалей подливал себе чаю, недовольно жевал бутерброд – и капризно мучал аспирантов. Дайте полифункциональное определение средневекового города. Что значит «вы не говорили»? Был список обязательной литературы. Был? Ну вот. Какие работы Аделаиды Сванидзе о городе и бюргерстве вы знаете? То есть не читали ничего. Понятно… Да, это не по курсу философии. И что же?
Над крышкой термоса клубился пар. От гигантского окна тянуло холодом, стекло изнутри обрастало мохнатым узором; город был подсвечен розовым, морозным светом. Сумалей демонстративно не спешил; моя очередь подошла к полудню.
– Ноговицын, – Сумалей посмотрел на меня затяжным недоверчивым взглядом. – Очень хорошо. Фамилия какая интересная. А имя-отчество? Алексей Арнольдович. Ещё интересней. А что вы, Ноговицын Алексей, э-э-э, Арнольдович, смогли вынести из моего курса? Поделитесь.
Отвечать Сумалею – всё равно что бить мячом в глухую стену: чем сильнее удар, тем быстрей возвращается мячик. В чём заключался смысл знаменитой надписи над конхой центральной апсиды в киевской Софии? Понятно. Что по этому поводу сказано в статье Аверинцева? Хорошо. Где статья Аверинцева опубликована? Неплохо. Кто ему возражал? Почему? Ладно, это вы знаете. Попробую спросить иначе…
Погоняв меня по всем вопросам и вымотав до основания, как зайца на псовой охоте, Михаил Миронович кивнул: годится. Опять воткнул в меня свой долгий непонятный взгляд. И вдруг добавил полушёпотом, чтобы не привлечь стороннего внимания: мне кажется, мы сможем с вами пообщаться. Дождитесь окончания зачёта.
Я наскоро сбегал в буфет, выхлебал тарелку «ленинградского рассольника», из огромного стального жбана налил себе бледного чаю, слакал в три глотка и вернулся на место. В коридоре присесть было негде – на время новогодних праздников уборщицы зачем-то попрятали стулья в кладовку; я стоял у грязного окна и тихо волновался.
За окном постепенно темнело, снег завихрялся, плотную завесу раздвигали фонари; редкие прохожие, нагнув заснеженные головы, упрямо пробивались сквозь метель, как восточный караван сквозь песчаную бурю. К шести аудитория освободилась лишь наполовину; метель утихла, образовались лёгкие сугробы; в десять вечера из аудитории вышел бледный Сумалей, с чёрным портфелем под мышкой, и торопливо направился к лифту.
– Михаил Миронович!
– А? что? – удивился он.
– Вы сказали, чтобы я вас подождал.
– Да? Кажется, действительно сказал. Но я уже ничего не соображаю, день выдался долгий, сами видите. Знаете что? Завтра кафедра, подтягивайтесь к двум, и поболтаем.