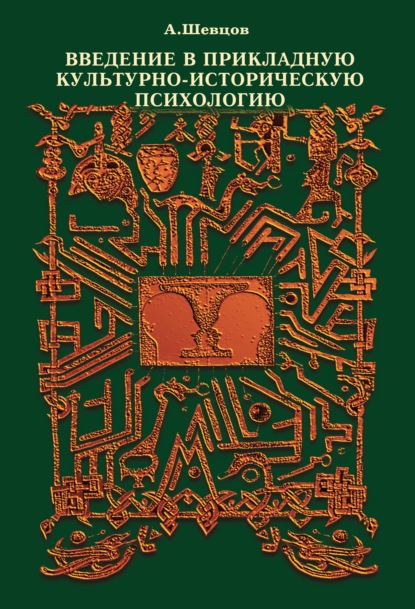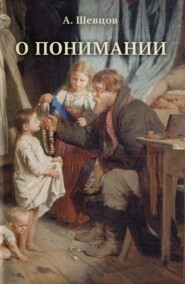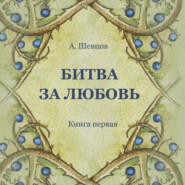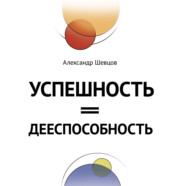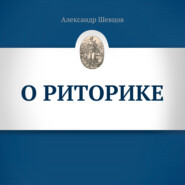По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в прикладную культурно-историческую психологию
Год написания книги
2000
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Опускаю я эти рассуждения и у Милля младшего, и его предшественника Иеремии Бентама. Их можно было бы обсуждать в рамках этики, но пока меня интересует лишь происхождение понятия «мотив».
Как я уже сказал, у меня сильнейшее подозрение, что Леонтьев заимствовал свое предметное понятие мотива именно у Милля и выдал за свою крайнюю оригинальность. Как говорится, новая шутка – хорошо забытая шутка.
Собственно говоря, для того чтобы понять Миллев мотив, мне будет достаточно его знаменитой «Системы логики», изданной в 1843 году. В ней все сказано. Поэтому я опущу вторую его знаменитую, но довольно позднюю работу 1864 года «Утилитаризм» и не буду ее разбирать. По сути она ничего не добавляет к его пониманию времен «Системы логики».
Что же касается «Системы логики», то о мотиве Милль говорит, как это и должно быть, в части, посвященной «Логике нравственных наук», то есть в его Этике. Как я это уже показывал, для большинства европейских философов вопрос о мотивах возникал в связи с понятием воли и причинности.
Для Милля он лежит в рамках несколько иного сочетания философских взглядов – причинности, воли и необходимости. В связи с этим я приведу эпиграф из Кондорсе, который Милль помещает перед этим разделом. Это значимое и многозначное высказывание.
«Если человек может почти с полною уверенностью предсказывать явления, законы которых он знает; если даже и тогда, когда эти законы ему неизвестны, он может, на основании опыта, с большой вероятностью предвидеть будущие события, – то почему мы должны считать химерическою попытку начертать сколько-нибудь правдоподобную картину будущих судеб человеческого рода на основании результатов истории?
Единственным основанием веры в естественные науки служит идея о том, что как известные, так и неизвестные нам общие законы, управляющие вселенной, необходимы и постоянны… Почему принцип этот должен быть менее верным в приложении к развитию умственных и нравственных способностей человека, чем по отношению к другим процессам в природе?
Наконец, так как самые умные люди руководятся в своем поведении единственно только мнениями, составляемыми на основании опыта… то почему станем мы запрещать опираться на это основание философу в его предположениях…» (Кондорсе. Цит. по: Милль, Система, с.758).
Самая главная мысль этого высказывания: в восемнадцатом веке естественники еще отчетливо осознавали, что их выбор обойтись без гипотезы бога и души есть лишь иная разновидность веры. Но Милль вряд ли обратил на это внимание, потому что те же слова можно было прочитать и как обоснование возможности из психологии сделать точную науку наподобие физики. Именно это он и делал вслед за Контом.
Тем не менее, сама по себе мысль, что психология может быть точной наукой, необходима для любого прикладного психолога как основание, позволяющее ему работать. От себя же скажу: психология – единственная точная наука. Просто потому, что все остальные науки лишь используют те понятия и образы, которые психология имеет своим предметом. Она – о самых основах всех точных знаний и строгих рассуждений, она о самой природе этих знаний и рассуждений…
Итак, Милль строит свою психологию в рамках Этики, как науки о поведении, начиная со второй главы раздела:
«1. Вопрос о том, приложим ли закон причинности к человеческим действиям в том же строгом смысле, как и к другим явлениям, есть тот знаменитый спор о свободе воли, который, по меньшей мере, уже со времен Пелагия, разделяет как философов, так и теологов. Учение, решающее этот вопрос в положительном смысле, называют обыкновенно “учением о необходимости”, так как оно утверждает необходимость и неизбежность человеческих хотений и действий» (Милль, с.761).
Милль сразу заявляет, что является сторонником именно этого учения и, объясняя его, впервые вводит понятие мотива:
«2. Правильно понятое учение о так называемой “философской необходимости” заключается просто в следующем: раз даны, во-первых, мотивы, действующие на душу известного индивидуума, а во-вторых, его характер и настроение, то можно безошибочно заключить о том, как он будет действовать.
Другими словами, если мы в совершенстве знаем человека и если нам известны также все побуждения, под влиянием которых он находится, то мы можем предсказать его поведение с такою же уверенностью, с какой предсказываем всякое физическое явление» (Там же, с.762).
Далее Милль дает обоснование свободы воли в рамках законов причинности. Ведь кажется, что если причинность жесткая, то и свободы у нас нет. Мы игрушки судьбы, необходимости или внешних стимул-реакций.
«Говоря, что все человеческие поступки происходят “по необходимости”, мы хотим указать только на то, что они непременно будут иметь место, если ничто им не помешает» (Там же, с.764).
Это последнее: если ничто им не помешает, – и есть полнейшее обоснование нашей свободы. Ведь мы всегда можем осуществить выбор и не делать то, к чему нас вынуждают. Даже обречь себя на смерть. Но обычное наше поведение, сказал бы я современно, будет соответствовать тому, что составляет содержание нашего сознания, иначе говоря, если ничто не подтолкнет нас к осознанному выбору, мы пройдем по тем образам действия, которые у нас есть. И в этом смысле человек культуры предсказуем и познаваем.
Человек может бездумно следовать поведенческим образцам, которые навязывает ему общество или культура, может бороться с ними, воспитывая и совершенствуя себя. Но если психолог знает, в рамках каких образцов существует человек, он будет точен, и если он знает, исходя из каких установок человек воспитывает себя, он опять же будет точен.
Далее Милль уходит в лоно взрастившей его ассоциативной психологии и становится менее внятен. Именно здесь и появляются те разговоры о целях, которые позаимствовал Леонтьев. Здесь же появляется и понятие предмета, к которому мы стремимся.
«4. Прежде чем учение о причинной обусловленности человеческих действий можно будет счесть свободным от запутанности и недоразумений, присущих ему в сознании многих людей, надо отметить, помимо наличности у человека способности к самовоспитанию, еще один факт.
Когда говорят, что воля определяется мотивами, то под мотивами не всегда и не исключительно разумеют предвкушения удовольствий или страданий…
Достоверно во всяком случае, что мы постепенно, под влиянием ассоциаций, начинаем стремиться к средствам, не думая о цели: предметом нашего желания становится само действие, и мы выполняем его безотносительно к какому бы то ни было мотиву, кроме него самого» (Там же, с.767).
Из навязчиво повторяющихся ассоциаций рождаются привычки, которые, каким-то образом, становятся целями. Очевидно, лишь одним из видов целей:
«Привычка известным образом направлять свою волю называется обыкновенно “целью”, и к причинам наших хотений, а также вытекающих из них действий, надо отнести не только склонности и отвращения, но также и такие цели. Только тогда, когда наши цели стали независимыми от тех чувств страдания и удовольствия, из которых они первоначально возникли, можно сказать про нас, что мы имеем установившийся характер» (Там же).
Все это было еще самым началом науки о поведении, поэтому оставляет ощущение недосказанности или незавершенности. Причем учение это, при всей своей зависимости от позитивизма, отнюдь не однозначно, и в нем еще надо бы разбираться и разбираться. Тем не менее, на этом учение Милля о мотивах завершается, и следует весьма неоднозначное заключительное высказывание, которое и смутило душу главного психолога Советского Союза. Очевидно, возможностями, вытекающими из старого приема ловить души в мутной воде: верую, ибо абсурдно!
«При указанных поправках и объяснениях учение о причинной зависимости наших хотений от мотивов, а наших мотивов – от представляющихся нам желательных для нас предметов (в связи с различиями в индивидуальной восприимчивости к желаниям) можно, как я надеюсь, считать достаточно установленным для целей нашего трактата» (Там же).
Да, наверное, Миллю было достаточно этих рассуждений, чтобы продолжать строить свою социальную физику, но я, честно говоря, не понимаю последнего высказывания. И у меня нет ясности ни с тем, что такое эти предметы, ни со странными различиями в восприимчивости к желаниям…а перевертыш с зависимостью желаний от мотивов, зависящих от желательного, и вовсе смущает мой ум.
Поэтому я хочу понять, откуда Милль заимствовал свое понятие мотива. Заимствовать он его мог у тех своих предшественников, которых поминает в этом разделе. А поминает он Бекона, Юма и своего отца, Джеймса Милля.
Конечно, он мог заимствовать это понятие и у Бентама, которого очень уважал и которому следовал в своей Этике, однако Бентам использует слово «мотив» лишь походя, как само собой разумеющееся. Он говорит о мотивах, которые движут людьми, но не говорит о том, что такое мотивы. Поэтому я его опущу и сразу перейду к отцу ассоциативной психологии Джеймсу Миллю.
Глава 7
Шотландские мотивы. Милль старший
Отец Джона Стюарта Милля – Джеймс Милль (1773–1836) – безусловно, оказал на сына огромное влияние и мог быть тем источником, из которого Д.С.Милль взял свое понятие о мотиве.
Джеймс Милль, в сущности, был творцом ассоциативной психологии. Понятие ассоциации было создано значительно раньше и использовалось многими еще до него, но именно он построил на нем первую научную психологию. Сделал он это в 1829 году в двухтомнике «Анализ феномена человеческого ума» (Analysis of the Phenomena of the Human Mind).
В России эта книга до сих пор не переведена, поэтому я буду рассказывать о его понятии мотива по второму изданию 1869 года. Во втором томе просто есть глава (XXII), называющаяся Motives. Глава большая, но само понятие мотива выводится Миллем в начале и довольно коротко, поэтому я переведу его целиком. Но начну с самого общего обоснования, так сказать, принципа, который оправдывает для Милля старшего все. Это существование Боли и Удовольствия. С них начинается глава, посвященная мотивам:
«Мотивы.
Приятные и болезненные состояния,
рассматриваемые как наши собственные действия.
При созерцании болей и удовольствий как будущего, другими словами, предвкушая их или веря в их будущее существование, мы замечаем в определенных случаях – они независимы от наших действий; в других случаях замечаем, что они следуют из чего-то, что может быть сделано или осталось несделанным нами.
Так, в определенных случаях мы предвидим, что болезненное ощущение или ощущения будут даны нам, но что-то может быть сделано нами, что предохранит от этого. И то же самое: приятное ощущение или ощущения могут быть даны нам, но не раньше, чем что-то будет сделано нами, что поведет к этим ощущениям» (Mill J., Analysis, с.256).
Из этого Милль уходит в рассуждения про ассоциации, которые, собственно говоря, и являются его главной целью. Мотивы, в сущности, появляются лишь «как всем понятное» научное словечко, которое усилит теорию ассоциаций.
«Когда идея удовольствия ассоциируется с нашим действием как его причина, это рассматривается как последствие определенного нашего действия, и как неспособное на другое существование; или когда причина удовольствия рассматривается как последствие нашего действия и как неспособное на иное существование, производится определенное состояние ума, которое, поскольку оно есть “тенденция к действию”, верно называют мотивом (a peculiar state of mind is generated which, as it is a tendency to action, is properly denominated Motive)» (Там же, с.258).
Дальше Милль сложно рассуждает о том, когда верно применять слово мотив, когда нет, и о том, что не всякий мотив производит действие, поскольку может быть погашен встречным мотивом. Также выводит классы мотивов, выводя их из того, к чему ведут действия: обжорство, секс, пьянство…
Как видите, никакой попытки понять, что такое мотив сам по себе, Милль в действительности не делает, для него все уже решено и работает с механической неизбежностью, как сама механическая ассоциативная психология.
Правда, редактор этого издания, а это, судя по всему, друг его сына и убийца ассоциативной психологии Александр Бэн, приписал к этой небольшой главке большое пояснение, в котором сделал любопытную попытку объяснить, почему в слове мотив звучит понятие о движении. Сначала он все так же механично повторяет мысли об ассоциации удовольствия и боли с действиями, а потом вдруг вопрошает:
«“A motive is something which moves – moves to what? To action”
Мотив это нечто, что движет – движет к чему? К действию».(Там же, с.262).
Гора родила мышь. Это объяснение напоминает мне так называемые «народные этимологии», когда люди, особо о собственном языке не задумывавшиеся, пытаются объяснять его странности, как бог на душу положит, а их бойкий ум сумеет подивить окружающих. К примеру, в позапрошлом веке родилось мнение, что варежки занесли на Русь варяги, поэтому правильно их надо звать варяжки…
Нигде в слове «мотив» нет намека на то, что он «ведет к движению». Есть лишь четкое этимологическое содержание: это слово означает движение, значит, оно само относится к чему-то движущемуся. Что движется в мотивах?
Глава 8