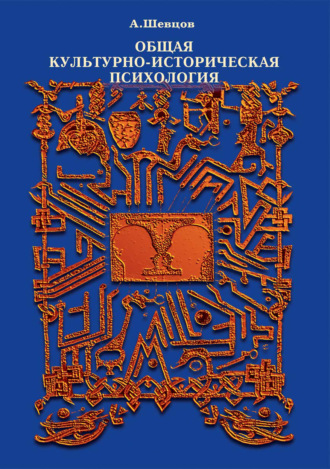
Общая культурно-историческая психология
«Идеи российских культурно-исторических психологов привлекли меня прежде всего тем, что они предлагали, казалось бы, естественный путь построения теории представленности культуры в психике, которая начинается с организации опосредованных действий в повседневной жизни. К этому же привели меня и моих коллег наши кросс-культурные исследования, так что точки соприкосновения очевидны.
Однако наш кросс-культурный опыт порождал и глубокий скептицизм в отношении любых выводов на основе рассмотрения процедур взаимодействия самих по себе, как если бы они были свободны от своей собственной культурной истории— например, заключений, что мышление бесписьменных, “несовременных” народов находится на более низком уровне, чем у их грамотных современников» (Там же).
Чтобы сделать понятным, с чем же он спорит и чем недоволен, я приведу его заключительные размышления о советской психологии. В них он кратко обрисовывает, как ее увидел и с чем, собственно, теперь воюет.
Осмысляя задумки Выготского о том, на какой психологической основе можно было бы построить образование детей, то есть о «социальном происхождении психики», Коул как бы не замечает, что попадает внутрь совсем не той цели, которая ожидается от науки – он тоже занят не поиском истины, а поиском средства для управления людьми. Сам он, похоже, к этому равнодушен, но вполне принимает такой подход, поскольку, как это про него писали и американские коллеги, не обладает склонностью к методологической стройности.
Однако, из-за этого весь его заключительный очерк «Великого замысла» советских психологов, посвященный вроде бы именно психологии, на деле оказывается вырастающим из задачи образовывать, то есть из задачи воздействия на людей. И это нельзя не учитывать, когда читаешь дальнейшие строки. Судите сами: если бы последующие строки, являющиеся самой сутью школы Выготского, шли как относящиеся только к психологии, вы бы прочитали их одним образом. Но они идут после слов: «Оно является основанием, на котором – в идеальном мире – могло бы быть построено образование детей».
(На всякий случай напоминаю: онтогенетическими изменениями биология считает изменения единичной особи, а филогенетическими – изменения племенные.)
«Теоретическая рамка, объединяющая эти разные принципы, с точки зрения “первой” психологии чрезвычайно широка. Она требует, чтобы психологи изучали не только непосредственно следующие друг за другом изменения, отмечая изменения в развитии и онтогенетические изменения, но также филогенетические и исторические изменения. Эти области, вдобавок, следует рассматривать во взаимосвязи друг с другом.
Исследование процесса человеческого развития, таким образом, неизбежно становится исследованием происхождения человека» (Там же, с. 134).
Коулу безразлично, к чему относится эта «теоретическая рамка». Он не пытался понять, он просто узнавал что-то свое. Если принять, что кросс- культурный психолог всегда кросс-культурный психолог, а не только во время экспедиций, то он должен был подходить к своей поездке в Советский Союз как к кросс-культурному исследованию. Американец просто не мог иначе ехать в отсталую страну, какой считал Союз. Это значит, что вот так же он понимал и всех тех людей, кого обследовал в Африке…
То, как он рассмотрел советскую психологию, сильно роняет мое доверие к нему, как к психологу. И поэтому, когда он дальше пишет о цели Лурии и Выготского, я сразу же отмечаю для себя: он не понимает, о чем говорит. Он только что сам описал их главную цель, и теперь либо должен говорить о ней, либо о подчиненной ей, промежуточной цели. Но в любом случае, он должен был понять, что вся психология нужна советским психологам для воздействия на людей, для их образования. Иными словами, дальше, говоря о цели, к которой они вели, Коул должен был поставить вопрос: а зачем?
«Л.Выготский и А.Лурия объявляли своей целью “…схематически представить путь психологической эволюции от обезьяны до культурного человека”. Их схема включает три ныне хорошо известные “главные линии” развития – эволюционную, историческую и онтогенетическую. Каждая из них имеет свой “критический момент”: “Каждый критический поворотный этап рассматривается нами раньше всего с точки зрения того нового, что он вносит в процесс развития. Таким образом, мы рассматривали каждый этап как отправной пункт для дальнейших процессов эволюции”.
Поворотным пунктом в филогенезе является начало использования орудий обезьянами. Поворотным пунктом в истории человека является возникновение труда и знакового опосредования (а позднее, возможно, и возникновение письма). Главным поворотным пунктом онтогенеза является встреча филогенеза и истории культуры в обретении речи» (Там же, с. 134–135).
Все выдержки взяты Коулом из той знаменитой совместной работы Выготского и Лурии «Этюды по истории поведения», в которой они решили научно доказать, что идеи Энгельса о нашем происхождении от обезьян верны. И если бы Коул задал вопрос, а зачем это? – ответ был бы освежающе не психологическим. Энгельсу не было дела до психологии. Он делал свое дело, дело общественное, он готовил революцию, водил по европейским умам призрак коммунизма.
Соответственно, целью советских психологов было продвижение этого образа в сознание необразованных русских и не русских людей. Они и в Узбекистан ездили не затем, чтобы изучать, а чтобы убедиться, что продвижение идет успешно. Вот какую основу заимствует Коул для своей психологии. И вот с чем спорит.
«В общем и целом история как будто выглядела так: высшие обезьяны достигают такой точки антропоидной эволюции, когда уже наблюдается использование орудий (Л.Выготский и А.В.Лурия основываются здесь на работах В.Келера), что обнаруживает филогенетическое развитие практического интеллекта.
Но для человеческой формы развития специфично нечто большее, чем использование орудий: “Мы могли бы все эти моменты, разграничивающие поведение обезьяны и человека, суммировать и выразить в одном общем признаке, сказавши так: хотя обезьяна проявляет умение изобретать и употреблять орудия, являющиеся предпосылкой всего культурного развития человечества, тем не менее трудовая деятельность, основанная именно на этом умении, еще не развита у обезьяны даже в самой минимальной степени… этот вид поведения не является основой приспособления обезьяны”» (Там же, с. 135).
Я намеренно привожу такие большие выдержки из работы Коула, чтобы с их помощью еще раз подвести итог всему разговору о советском культурно-историческом подходе. Коул выбрал действительно главное из этого подхода. Его непосредственность делает советских психологов порой весьма откровенными в том, ради чего они делали эту науку:
«Последними составляющими, которые следовало бы добавить к способности обезьян использовать орудия, являются речь и знаковое опосредование, “орудия господства над поведением”» (Там же).
Да, высшим пиком работы Выготского, да и всей советской психологии, было решение социального заказа: как психология может помочь власти управлять поведением людей. Собственно говоря, именно этого от нее ждали, и только за этим она и была нужна. Поэтому работы Выготского, посвященные мышлению и речи, так ценились и ценятся нашими психологами до сих пор. Они – гарантия их нужности государству. Но подавалось это все как познание человека:
«Продуктом этой новой комбинации является качественно новая форма опосредования, такая, в которой орудие и язык объединяются в артефакте. Это – момент возникновения примитивного человека» (Там же, с. 135–136).
Вот с этого и начинает Коул собственную культурную психологию, чем показывает, что дальше надо идти иным путем, чем шли советские психологи.
Глава 3
Артефакты
Коул ощущает, что существующее в антропологии определение понятия «культура» недостаточно и не позволяет работать психологу, поэтому он пытается найти собственное понимание культуры. Он посвящает этому главу «Помещая культуру в центр». При этом он вообще отказывается давать понятию «культура» определение и просто уходит от этого, надеясь, что достигнет большего, если возьмет за основу просто одно из частных понятий культурологии – артефакт. В этом, безусловно, отражается его методология…
Артефакт в прямом переводе с латыни просто «искусственно сделанный» от латинских слов arte – искусственно, factus – сделанный. Но это если идти по прямому значению слов. Наука редко так делает, поскольку ей требуются новые значения для обычных слов. Поэтому наши Словари иностранных слов могут, к примеру, дать такой перевод этого слова: «образования или процессы, возникающие иногда при исследовании биологического объекта вследствие воздействия на него самих условий исследования» (Совр. Словарь ин. слов, М.Р. яз, 1992).
Советская психология этого слова не знала и не использовала. В современных русских психологических словарях оно изначально связывается с культурно-исторической психологией. А вот в американской психологии оно существует и понимается, если верить Артуру Реберу, очень просто: Артефакт. Вообще – любой объект, созданный или модифицированный людьми.
Если заменить непонятный объект на предмет, а еще лучше на «всё», то получается, что артефакт – это всё, что сделано или изменено людьми.
Если исходить из такого понимания, то культура обретает вполне понятное определение – она становится той искусственно созданной средой, которую творит человек вокруг себя, чтобы обеспечить свое выживание. И состоит эта среда из артефактов, то есть из всего, что сделано или изменено человеком в своих нуждах. Последнее добавить необходимо, потому что человек может менять что-то и случайно, и тогда сами культурологи оказываются в недоумении: считать ли данное изменение культурным явлением. Или же это всего лишь следы человеческой деятельности, вроде следа от топора, воткнутого в дерево туристами…
Итак, Майкл Коул, разобрав источники собственной школы, приступает к созданию своего подхода.
«Идеи российских культурно-исторических психологов привлекли меня прежде всего тем, что они предлагали, казалось бы, естественный путь построения теории представленности культуры в психике, которая начинается с организации опосредованных действий в повседневной жизни. К этому же привели меня и моих коллег наши кросс-культурные исследования, так что точки соприкосновения очевидны.
Однако наш кросс-культурный опыт порождал и глубокий скептицизм в отношении любых выводов… – например, заключений, что мышление бесписьменных, “несовременных” народов находится на более низком уровне, чем у их грамотных современников. Вера в исторический и умственный прогресс заводила русских психологов во многие из тех же методологических ловушек, в которые попадали и мы в нашей кросс-культурной работе.
В свете этих соображений начну изложение моей попытки создания концепции культуры, адекватной теориям и практикам “второй”, культурной психологии, с феномена опосредования, однако, в отличие от русских, начну не с понятия орудия, а буду рассматривать его как категорию, производную от более общего понятия “артефакт”» (Коул, Культурно, с. 140).
Вот так было достигнуто Коулом преодоление зависимости от советской психологии, и сделан шаг, который, предположительно, должен был устранить противоречия и советской, и американской психологии. Действительно, поскольку Коул уходил в более широкое понятийное пространство, такая возможность появлялась.
Никакой «концепции культуры» Коул не дает. Он сразу переходит к артефактам. Что он понимал под ними?
«Артефакт обычно мыслится как материальный объект – нечто, изготовленное человеком. В антропологии изучение артефактов связывают с изучением материальной культуры в отличие, скажем, от изучения поведения или представлений человека. Следуя подобной интерпретации понятие об артефакте легко включить в категорию орудий, но это нам мало что даст.
В соответствии с представляемыми здесь взглядами, которые несут сильный отпечаток идей Джона Дьюи и в своем происхождении восходят к Г.В.Ф. Гегелю и К.Марксу, артефакт есть некий аспект материального мира, преобразованный по ходу истории его включения в целенаправленную человеческую деятельность» (Там же, с. 141).
Безобразное определение, поскольку никто из нас никогда не встречается в жизни с аспектами даже материального мира. Когда ученый вставляет такое крутое словцо, это означает, что он не знает, как сказать то, что хочет сказать. В сущности, здесь должно бы стоять неопределенное «нечто», «не знаю, как сказать».
В латыни «аспект» означал взгляд, вид. Наука стала использовать это слово для обозначения точки зрения. Не думаю, что это подходит для перевода Коула. Все же он просто вставил словцо для обозначения чего-то непереводимого. Соответственно, такой допуск неопределенности должен сказаться на последующем рассуждении и на всем устройстве его науки. Собственно говоря, оно и сказывается уже в следующих строках. Ничто материальное не должно, если верить философии, быть одновременно идеальным. Но вот неопределенный «аспект» может быть чем угодно:
«По природе изменений, произведенных в процессе их создания и использования, артефакты одновременно и идеальны (понятийны) и материальны. Они идеальны в том смысле, что их материальная форма произведена их участием во взаимодействиях, частью которых они были в прошлом и которые они опосредуют в настоящем» (Там же, с. 141).
Если попытаться передать ту же мысль проще, Коул вслед за Марксом и Гегелем хочет сказать о том, что вещь становится вещью только в том случае, если у человека появляется соответствующий ей образ. Лежащий на земле камень – не более, чем камень. Но глаз художника или влюбленного может превратить его в подарок, и впоследствии хранящая его в драгоценной шкатулке женщина будет глядеть на камень, а видеть и подарок, и любовь, и любимого, и даже лучший день своей жизни…
Точно так же дикарь, глядя на осколки разбившегося самолета, будет лишь удивлен странному виду железных камней, но может даже не допустить мысли, что они сделаны человеком.
Иными словами, говоря о двойной природе артефактов, Коул теряет психолога и скидывается в философа-идеалиста, каковыми были и Гегель и Маркс. И для них образ вещи, хранящийся в сознании, внезапно выпрыгивает наружу и прилипает к вещи, становясь частью ее. Само же это «выпрыгивание» или «напрыгивание» образа, благодаря которому и происходит узнавание вещей, существ и явлений, философ упускает. Упускает по причине слабой культуры самоосознавания и самонаблюдения. Все-таки философия развивалась в основном как бегство от действительности в мир идеальных сущностей и понятий…
Психологу немножко стыдно не владеть самонаблюдением. Но, с другой стороны, не надо забывать, что Коул и все кросс-культурные психологи лишь движутся от естественнонаучной психологии к некой культуре, но никак не являются изучающими душу. Искусство же самонаблюдения было вырезано в психологии именно как борьба с наукой о душе еще на рубеже двадцатого века. Поэтому Коул занят все тем же: как объяснить душевные явления, не используя понятия о душе и даже не допуская ее в свои построения. Самонаблюдение тут не полезно…
Сделав философски недопустимое сращение – припаяв материальное к идеальному в одном «аспекте», вполне можно сделать переход, столь милый советской психологии:
«При таком определении признаки артефактов равно приложимы в тех случаях, когда речь идет о языке, и в случае более привычных форм артефактов, таких, как столы и ножи, составляющие материальную культуру.
Слово “стол” и реальный стол различаются особенностями материала, идеальными аспектами и видами взаимодействий, которые они допускают. Никакое слово не существует отдельно от своего материального воплощения (такого, как набор звуковых волн, движения рук, письмо или нейронная активность), следовательно, всякий стол воплощает некий порядок, порожденный мыслью человека» (Там же).
Ну, вот! Начал с сопоставления стола и слова «стол», оказался с выведенным из этого правилом, что слово не существует без своего материального носителя, будто это развитие все той же мысли…
Ладно, бог с ними, с материалистами. Всё это должно читаться с добавлением слова: предположительно. Всё это гипотезы. Когда обнаруживаешь себя вне тела и думаешь о нем, нейронная активность мозга оказывается настолько сомнительной, что начинаешь подозревать: наука вообще не поняла, зачем нужен мозг!
Кстати, в следующей главе, посвященной историзму или генетическому методу в психологии, Коул дает некоторые подсказки. Думаю, я уже достаточно показал всю надуманность марксистского подхода к культуре, заявляющего «представление об артефактах как о продуктах истории человечества, являющихся одновременно и идеальными, и материальными», чтобы оставить эту часть культурной психологии Коула на самостоятельное изучение. Надеюсь, я сделал достаточно очевидным и то, что либо эти понятия нельзя смешивать, поскольку они разные, либо, если лежащие в их основе предметы действительно обладают такой природой, которая может рассматриваться и так и этак, необходимо сменить язык. Старый философский способ говорить о материальной и идеальной составляющих мира, возможно, и устарел. Но он – самостоятельное и самоценное явление культуры и заслуживает уважения.
Для того разговора, который затеял Коул, нужен был собственно-психологический понятийный язык. Не думаю, что он возможен в рамках естественнонаучной парадигмы. Пока психолог не признает душу, все разговоры об идеальном просто беспредметны, он попросту не знает того, о чем говорит.
Глава 4
История
Отношение к истории у Коула тоже довольно путанное. В сущности, он посвящает ей две главы, одна – об истории человека как вида, вторая – о личной истории. Но не об истории человека как личности, а об истории его как, можно сказать, организма… В общем, Коул еще очень академический психолог, для которого биология является основой психологии.
Я не буду вдаваться в его организмические взгляды. Они совсем неуместны в рамках культурно-исторической психологии, хотя не учитывать то, что мы воплощены в тела, невозможно. Но пока мне важней всего именно культурно-историческая составляющая психологии, а это относится к сознанию, но не к телу.
Осознал ли это Коул, заявляя КИ-психологию? Вот вопрос! Честно признаюсь: я до сих пор не могу этого понять. Коул обилен, разнообразен и так запутан, что я не понимаю, как же он в действительности видит предмет своей науки. Продираться сквозь его сочинение приходится как на допросе злоумышленника. И порой ловишь себя на том, что сделал выводы из того, что сам Коул чуть позже отменяет. Впрочем, он-то, вероятно, и не заметил, что отменил. Просто у него такой стиль рассуждения.
Но то, как он не замечает подобные противоречия, отменяющие целые пласты рассуждений, я, пожалуй, смогу показать именно на примере исторической части его психологии.
В первой же главе, посвященной истории – «Филогенез и история культуры», – говоря о сложностях изучения наших палеолитических предков, он приводит выдержку из исследования Вашбурна и Хауэлла, которую относит к вопросу об использовании орудий:
«Три десятилетия назад общее согласие в отношении происхождения культуры и возникновения Homo sapiens основывалось на представлении о центральной роли изготовления и использования орудий:
“Теперь оказывается… что большой объем мозга определенных гоминидов был относительно поздним приобретением и что эволюция мозга произошла благодаря действию новых факторов отбора, возникших в связи с прямохождением, и была следствием использования орудий. Скорее образ жизни, связанный с использованием орудий, наземной жизнью и охотой, создал большой мозг человека, нежели человек с большим мозгом открыл новые способы жизни…
Уникальность современного человека представляется результатом технической общественной жизни, которая утроила размер мозга, уменьшила лицо и изменила многие пропорции тела” (Вашбурн и Хауэлл).
С тех пор картина значительно усложнилась» (Коул, Культурно, с. 173174).
Казалось бы, последняя фраза отменяет сказанное про мозг, но нет: Коул не хочет сказать, что оно неверно, он хочет сказать, что объяснение происходящего с человеком во время его исторического развития скрывается в другой причине. Чуть дальше он приводит данные самых современных исследований:
«Хотя в целом связь между использованием сложных орудий и увеличением и усложнением мозга признается, существует довольно основательное и, похоже, распространяющееся мнение, что использование орудий менее важно, чем думали раньше, и что ведущей причиной изменений мозга, связываемых с эволюцией человека, являются изменения в социальной организации (Хамфри, Данбар).
“Поскольку у приматов (не у человека) намеренное совместное действие часто социально регулируемо, кажется более разумным объяснять его социальным взаимодействием, а не действием с объектами. Соответственно, теория эволюции технологии должна делать меньший акцент на различиях, пусть и важных, между человеком и обезьяной в способности использовать орудия, а вместо этого задаться вопросом, как эти способности интегрируются в области намеренного социального действия” (Рейнолдс)» (Там же, с. 175).
Что же здесь сказано?
Во-первых, что исходные установки Дарвина, Энгельса и прочих эволюционистов и биологов, что мозг имел значение для превращения обезьяны в человека, неверны. Как раз наоборот: превращение в человека создало тот мозг, который мы имеем. Мозг вторичен, он следует за теми изменениями, которые происходят в человеке, и нарастает в соответствии с его надобностями.
Во-вторых, марксистская теория о том, что орудия и вообще труд превратили обезьяну в человека, тоже неверна, но это мелочи. Неверна сама гипотеза о том, что рождение человека – биологическое явление!
Может быть, человек и появляется биологически, но именно этими утверждениями исследователей разрушена единственная стройная картина того, как это было возможно. Естественнонаучная психология больше не имеет основания…
Вот какой вывод напрашивается из приведенных Коулом данных. Еще раз повторю: возможно, они и не верны, а все происхождение человека происходило вполне биологично. Но теперь это надо выстраивать заново. И этого нельзя не видеть. Самое малое, что должен был сделать человек, приведший эти данные, – это либо принять их, либо опровергнуть. Коул попросту, не мудрствуя лукаво, сбегает от этих вопросов в свои излюбленные артефакты…
«Выводы об антропогенезе, основанном на данных об использовании орудий и развитии мозга, довольно фрагментарны, но здесь по крайней мере есть материальные объекты, с которыми можно работать.
Когда же мы начинаем рассматривать вопросы о том, как развитие мозга и использование орудий связаны с изменениями в мышлении и языке, и без того ненадежные и спорные построения становятся еще более проблематичными по той очевидной причине, что язык и мышление не оставляют прямых материальных следов в природе…» (Там же, с. 175–176).
И ни слова о том, что не орудия, а общественные отношения заставили развиваться наш мозг, делая его орудием, приспособленным для обслуживания общества и общественного существа…
После этого Коул становится неинтересен. В сущности, он сам отменил себя и не заметил этого. И повторяет это упражнение многократно. Он бьется в тисках естественнонаучной психофизиологии, даже не замечая, что собирался говорить о психологии культурно-исторической. Поэтому для него так важны Выготский и Лурия – оба, по своей сути, естественники в психологии. Вслед за ними он повторяет какие-то очень важные для культурно- исторической психологии вещи, тут же отменяя их биологизмом.
Как пример приведу его рассуждение о «законе напластований», в котором, если вдуматься, и заключается самая суть исторического метода психологии. Существование напластований, то есть меняющих друг друга слоев сознания, бесспорно. И именно в них скрывается или содержится то, что мы называем культурой, а сама их смена и есть воплощение истории. Но Коул сбегает вслед за Выготским от этого в…напластования мозга!..
«Работая приблизительно в то же время, что и З. Фрейд, Л.Выготский использовал геологическую метафору, которую он приписывал Эрнесту Кречмеру, немецкому психиатру. Л.Выготский применял этот “закон напластований” в истории развития как к онтогенезу и регрессии поведения в результате мозговых нарушений, так и к онтогенезу понятий.
В связи с исследованиями мозга он писал: “Исследования установили наличие генетически различных пластов в поведении человека. В этом смысле “геология” человеческого поведения, несомненно, является отражением “геологического” происхождения и развития мозга”.
В хорошо известных исследованиях по формированию понятий он писал: “Формы поведения, которые возникли очень недавно в человеческой истории, обитают среди самых древних. То же можно сказать и о развитии детского мышления”.









