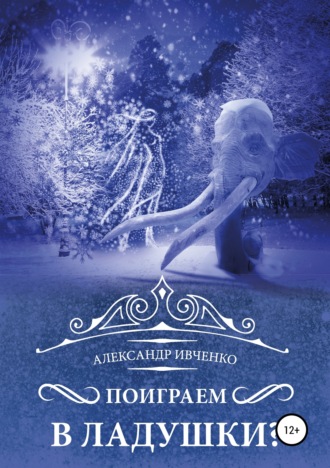
Поиграем в ладушки?
Что? «Добрый вечер»? Кто это поздоровался с нею? Какая-то незнакомая женщина средних лет… Наверное, кто-то из бывших учениц. Их столько было! Всех не упомнить. Но разве сейчас вечер, и люди уже спешат домой, а не на работу?! Чудеса! Наверное, ученица шутит. Над нею часто подшучивали ученики – на то и детство, чтобы смеяться. Правда, никогда не шутили зло… Нет, эта школьница не желала ей зла. Бог с нею!
Темный подъезд старого дома с лепными карнизами. Грязные ступени, ржавые почтовые ящики. Писем снова нет. Одна лишь газета, пестрая, как попугай.
Господи, как же болит колено! Как только кончатся эти чертовы ступени, и она доберется до квартиры, надо будет немного отдохнуть. Конечно, впереди много дел, но усталость – плохой помощник.
Вот и дом! Как же хорошо дома! Не зря Лариса любит приезжать в гости. И внуки любят. Она садится на кровать. Почему постель не убрана? Так закрутилась с утра, что даже забыла убрать за собой постель. Ну а что вы хотели? Приезжает единственная дочь с внуками. Вот она, Лариса, улыбается со стены с выгоревшей фотографии. Такая молодая!
Ларочке суждено всегда быть молодой. Какие добрые лучистые глаза, располагающая улыбка, пышные кудри! Глаза у нее темные – Григория. А вот улыбку и роскошные волосы Ларисе подарила она. Хорошая фотография. Когда спросили, какой портрет выгравировать на мраморной плите, они с мужем ни секунды не колебались – отдали это фото.
Что это в руках? Ах, да, газета! Мелкий шрифт не разобрать, но заголовки она прочесть в состоянии. «Организация покупает…», «Требуются…», «Вакансии», «Ремонт и отделка», «Лом цветных металлов», «Высокооплачиваемая работа для…» Что это?! Восемь страниц рекламы и ни одной статьи? А где передовица? Где отчет о текущем положении дел в стране? Где очерки, фельетоны, репортажи? Нет! Так дальше не пойдет! Надо обязательно позвонить в газету и отказаться от подписки. Она не намерена тратить свои деньги впустую. Она вообще не любит газеты. С тех самых пор, как они стали писать эти гадости про Ларису…
Рука нащупала шоколад в кармане плаща. Кажется, она забыла снять плащ в прихожей. Ну, пусть пока повисит на спинке кровати. Пальцы разрывают обертку, шуршат фольгой. «Известная молодая актриса…» – писали газеты, – «Подающая большие надежды…». Шоколад тает на языке. А он вкусный, этот шоколад! Надо только постараться, чтобы сладкое не попало на левую сторону, иначе опять разноется зуб. «Народная любимица» – трубили газеты, – «погибла при пожаре на гастролях».
Какие страшные слова… нет, они не могут быть правдой. Газеты врут. Газеты всегда врут! Кормят подписчиков за их же деньги восьмью страницами рекламы. Лариса смотрит с фотографии и улыбается. Она скоро приедет. И с нею приедут внуки. Красавице-внучке Светлане она подарит свои лучшие черепаховые гребни. Просто сейчас Лариса немного занята.
А шоколад все-таки попал на больной зуб. Надо сходить к стоматологу и поставить пломбу. Завтра. Обязательно!
Руки сминают шоколадную обертку и кладут комок бумаги и фольги на тумбочку у кровати. Обертка падает на пол, скатившись с горки таких же мятых фантиков. На полу у тумбочки их тоже изрядная куча.
Нужно убраться. Скоро приезжает Лариса. Но работа – это потом, чуть позже. Сейчас она устала. Очень устала. Она немного соберется с силами и уберет. Потом. Потом…
Вечер Старика-часы
Старик неспешно брел по парковой аллее и размышлял. Он привык бродить и привык размышлять. На ходу он достал блокнот, открыл его на заложенной странице и перечел:
«Как страшно чувствовать, что течение времени уносит все, чем ты обладал. Блез Паскаль».
Старик, соглашаясь, кивнул.
– Вправе ли я обижаться на время за то, что оно отбирает у меня все, что само подарило? – спрашивал себя он. – Молодость и амбиции, привычки и привязанности… Что оставило оно мне, кроме скрипящей оболочки, в которой трепещет лишь одна мысль: мысль о том, что жизнь была дана мне не то в насмешку, не то в назидание?
Не я ли просыпаюсь каждый день с думой о том, что зажился на этой земле излишне долго? Какая длинная, но какая короткая жизнь…
Во мне до сей поры живет эхо той звенящей радости, которая наполняло мое существо в детстве, и прямо сейчас я отчетливо чувствую пятками горячий песок, по которому бегу в одних штанишках, пытаясь перегнать свою тень.
Будто рядом – руку протянуть – слышу я мамин голос, и ощущаю тот особый, лишь одному месту на земле присущий запах. Это пахнет темнота внутри фамильного шифоньера, где я от нее спрятался…
Старик прикрыл глаза и глубоко вздохнул…
– Я помню стонущий визг бомб – он был куда страшнее грохота взрывов, помню запах гари и серы. Помню вкус блокадного хлеба. Даже не вкус, а то, как сводило скулы, и рот наполнялся жадной кислой слюной, а нёбо, казалось, готово лопнуть от предвкушения этой скудной и неказистой на вид, но самой вкусной в мире пищи.
И свой свисток из автоматной гильзы… Самый громкий во всем дворе. Сколько неподдельной радости подарил мне этот кусок металла?! Ощущал ли я в своей жизни большую и ни с чем не смешанную гордость?
В те дни я бежал впереди времени и удивлялся, почему оно не желает поспевать за мной. Ах, как хотелось скорее пойти в школу, потом – поскорее перейти в другой класс, потом – скорее получить аттестат! Но время не слушало меня. Оно заставляло изнывать от нетерпения и учило примериваться к своему шагу.
Что до гордости… Я, безусловно, гордился, получив аттестат, гордился поступлением в университет, после – гордился дипломом журналиста. О, как я был горд, впервые попав на телестудию! И это слабо сказано! Да ведь я раздувался от гордости, будто, как минимум, обогнул земной шар, по пути открыв несколько неизвестных материков!
Впрочем, потом я и впрямь обогнул земной шар. Я пожимал твердую ладонь бородатого Фиделя. И мягкую, чем-то похожую на сдобную плюшку, руку Никиты Сергеевича, тоже пожимал… Колонный зал Дома Союзов, съезды писателей и композиторов, конгрессы и конференции, лица, которые многие видели лишь на открытках и в кадрах отснятой мною кинохроники… Командировки, командировки, командировки – яростное желание увидеть все, объять необъятное и поспеть за горизонт, который всегда остается недостижимым. И, само собой, чувство собственной исключительности. В те дни я рассмеялся бы в лицо тому, кто заявил бы, что человек – не сам хозяин своей судьбы. Я уже не бежал впереди времени. Я уверенно шагал, задавая высокий темп, за которым, как мне казалось, время вынуждено поспевать.
Но по какой-то причине то, чем я больше всего гордился, сегодня для меня стало далеким и совсем чужим. Будто о своей жизни я прочел в какой-то официальной газете, где публикуют отчеты о торжественных заседаниях и перевыполнении плана… Впрочем, так оно и есть. Ведь я лично описал эту жизнь в своих мемуарах и книгах и даже проиллюстрировал очень ценными, как мне тогда казалось, фотографиями: я на Кубе, я и первый рельс БАМа, я и великие, я и трудящиеся, я и великие трудящиеся, я, я, я… Сегодня весь этот пожелтевший фото-хлам я с радостью подарил бы первому встречному. Вот только наплыва желающих любоваться мною, увы, не наблюдается…
В те дни у меня уже не было нужды форсировать события. Я научился быть степенным. Сначала степенность была искусственной. Я ограничивал свою резвость, чтобы казаться солиднее. Потом она стала привычной, она стала нормой. Мне даже тогда показалось, что я могу не только учить, но и поучать. Бессчетное количество раз пересказал я свою биографию школьникам и трудовым коллективам, пионерам и комсомольцам, членам профсоюзов и делегациям из дружественных республик. Не потому ли сегодня для меня это не живые воспоминания, а лишь бездушные строчки, написанные, к тому же, не самым талантливым, на мой взгляд, автором… И вот теперь, когда моя степенность стала вынужденной, чем я горжусь? Званиями и наградами? Нет. Книгами и фотографией на городской доске почета? Сомневаюсь. Тем более, меня все равно никто на ней уже не узнает…
Два года назад к очередному юбилею ко мне приходил паренек из городской многотиражки. С круглыми от волнения глазами он выпытывала у меня – каким фактом в своей биографии я наиболее горд? Когда-то я назидательно назвал бы этот вопрос непрофессиональным и некорректным. Но время значительно снизило градус моей назидательности. Я рассказал ему о людях, твердых, как кремень, честных и бескорыстных. О людях, верных своим идеалам – простых работягах, которые покоряли тайгу и орошали пустыни. Я говорил, что горжусь ими и той страной, в которой они жили. Но пареньку хотелось сенсаций…
Он настойчиво подталкивала меня к тому, чтобы я заново пересказал свои мемуары. И я пересказал. В общем-то, с гордостью. Только гордость эта протокольная. Она есть потому, что должна быть. А вот если без протокола?! Чем я горжусь? Свистком из гильзы… Ведь он был самым громким во дворе! Прав был Шопенгауэр: воистину, час ребенка длиннее, чем день старика…
Нет! Больше всего я горжусь тем, что Она выбрала меня. Она была совсем юной, но рядом с нею я, состоявшийся и известный журналист, чувствовал себя мальчиком. Слова, которые я всегда считал своим верным оружием, вдруг оказались непослушными и бесполезными…
В Ее глазах жила спокойная и ласковая мудрость. Впервые в жизни мне захотелось остановиться и не бежать за горизонт. Она была настолько беззащитной, что я чувствовал себя рыцарем-героем, готовым побеждать любых драконов. Она была настолько сильной и несгибаемой, что я поневоле восхищался и спрашивал себя – могу ли я быть таким же стойким, и понимал – не могу.
Ее лицо было необыкновенным. Я смотрел на это лицо, не отрываясь, просыпался по ночам, и, глядя на него, завидовал сам себе!
Когда я целовал Ее в первый раз, в моей груди неожиданно кончился воздух. Я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, но готов был умереть, чувствуя ее губы на своих губах.
Чем я горд? Тем, что не обманул ее доверия. Я так и не понял неверных жен и мужей – Она подарила мне это счастье. Мы не могли помыслить не то что об измене, но даже о неискренности…
Она была самым верным другом и лучшей женщиной. Пыл и страсть – излюбленный конек романистов, хотя, по чести, испытать то, о чем пишут в любовных романах, дано не каждому. Да, счастлив тот, кто знает, как звучат любящие души и тела, сливаясь воедино. Но впятеро счастливы познавшие покой – покой той минуты, когда самый дорогой на свете человек засыпает в твоих объятиях, и ты проваливаешься в сон, прикасаясь губами к милому виску… Кажется – вся Вселенная лежит у тебя на плече… Я жил ради этой минуты.
Когда меня спрашивали, как мог я оставить все, чего добился, и перебраться из столицы в провинцию, у меня всегда находилась формальная отговорка: «Разве не заманчивое предложение – возглавить областное телевидение и написать его историю буквально с первой страницы?» Мне жали руку, но в глазах я читал: «Глупец!». Им не дано было понять, что бесконечные командировки, фуршеты и конгрессы крадут у меня то, ради чего я хочу жить.
Ее родной город… Наш город… Наш сын… Наш парк и наши прогулки вечерами… Вот когда я захотел крикнуть времени: «Остановись!» Но оно не слушало и не слышало, отмеряя года и десятилетия. Правда, я не замечал этого. Я был счастлив. Очень счастлив…
Но вдруг я однажды понял, что время начало меня обгонять. Сколько-то мне удавалось поспевать вслед. Но я начал отставать. Все чаще меня толкали в спину. И вот однажды я – тот, кто совсем недавно был уверен в том, что задает темп времени и является едва ли не его лицом – вдруг понял, что время летит мимо. Оно уже чужое, не мое. Это время требует, чтобы я отрекся от всего, во что искренне верил, и начал воспевать то, что всегда презирал.
Наверное, так и пришла старость. Я еще кипел, как котелок, который сняли с огня. Но волей-неволей мне пришлось остывать. О, если б не Она! Если бы не ее терпеливая и ласковая мудрость! Что было бы со мною? Смог бы я с достоинством перенести это испытание? Не знаю… Она верила в меня, и благодаря этому я все еще ставил новые цели и все еще из кожи вон лез, чтобы их достичь. Колонка в газете, членство в Общественной палате, лекции на факультете журналистики, ряд монографий…
Я еще больше полюбил наши вечера и ту самую минуту покоя перед сном. Мы засыпали вместе, чтобы проснуться и прожить рядом еще один день.
Но однажды я проснулся один… Ее остывшие руки и белое лицо – мое последнее воспоминание, потому что время, наконец-то, услышало меня и остановилось. Дальше – свинцовый шар в груди, не дающий дышать. Календарь говорит, что прошло много лет, но это неправда. Я заперт временем в одном и том же дне в наказание за излишнюю самонадеянность…
Я просыпаюсь каждое утро ровно в ту минуту, когда ее не стало, завтракаю и иду на прогулку. Я хожу, чтобы дать упражнение телу, и размышляю, чтобы загрузить работой мозг. Я стараюсь не раскисать, потому что знаю – моя слабость расстроила бы Ее. И каждый вечер я иду к нашей скамейке в парк, чтобы побыть немного с Нею…
***
Старик остановился у парковой скамьи. Он заглянул в свой блокнот и поставил карандашом аккуратный восклицательный знак напротив записи:
«Увы, не время проходит, проходим мы. Пьер де Ронсар».
Он уложил блокнот во внутренний карман плаща, снял шляпу и устроился на скамье. Плечи его ссутулились, а невидящие глаза обратились к недостижимому горизонту…
Через некоторое время к скамье, стоявшей неподалеку, подошла пара. Парень держал девушку за руку с почтением и осторожностью. Старик взглянул на них, и глаза его потеплели.
– Да, пусть мы проходим, – подумал он. – Но за нами приходят другие. И мир для них все так же полон неизведанного и прекрасного!
Тем временем девушка кинула быстрый взгляд в сторону старика, привстала на цыпочки и что-то шепнула своему кавалеру. Тот с сомнением глянул по направлению его скамейки и неуверенно пожал плечами.
– Дети, дети… – думал старик с тихой грустью. – А ведь где-то далеко в Канаде растут и мои внуки, мое продолжение. Старший уже, наверное, так же вот прогуливается с девушками под ручку… Когда сын Андрей заявил, что в России ему не развернуться, я не отговаривал. Другое время… Наверное, им я тоже мог бы гордиться. Он режиссер. Говорит, что известный. Точнее, он сказал не так. Он сказал «успешный». Правда, в тех роликах, что он мне показывал, когда приезжал в последний раз, я ничего не разглядел, кроме «рваного» монтажа и трясущейся камеры… Я безнадежно устарел, и не стал критиковать работу, чтобы не показаться ханжой. Но и хвалить не стал…
Меж тем, тихий спор между влюбленными у соседней скамейки продолжался. Казалось, девушка настаивает, побуждая парня на какое-то действие, а тот, краснея, отказывается.
– Скучаю ли я по сыну? – спрашивал себя старик, поглядывая на парочку. – И да, и нет. Я скучаю по малышу, чьи волосы пахли молоком и чем-то еще щекочуще-нежным. По мальчишке с тысячей «Почему?!» в голове… По студенту, жадно хватающему те крупицы знания, что я мог ему дать, и нетерпеливо рвущемуся вперед, дальше, чем смог пройти я…
Какое же место в моей жизни занимает тот человек, который иногда звонит из Канады с вопросом, как идут мои дела, и интересуется новостями? Он мне, безусловно, дорог. Но я не скучаю ни по нему, ни по его звонкам, ни по письмам, набранным на клавиатуре. Разве ж меняется смысл текста от того, каким шрифтом он написан?! Я, вероятно, капризничаю. Но, не видя его почерка, я не могу понять, в каком он настроении, а иногда даже не верю, что это писал именно мой сын, а не какая-то бездушная машина! Телефонных звонков я и вовсе боюсь, потому что дела у меня всегда «как обычно», а новостей у меня очень много лет никаких нет…
Девушка легонько подтолкнула парня в бок, но тот покраснел и отрицательно замотал головой. Это действо, наконец, выдернуло старика из омута его мыслей и заставило повнимательнее присмотреться к своим соседям. Влюбленные заметили этот взгляд и смутились.
– Почему они на меня так смотрят и о чем спорят? – молча удивился старик. Он некоторое время наблюдал тихий диалог, чуть прикрыв веки. И вдруг легкий румянец набежал на его впалые небритые щеки.
– Неужели… Неужели узнали?! – быстрой ласточкой мелькнула мысль в его голове. – Я, конечно, теперь не слишком лестного мнения о себе… Но… Когда-то давно мне довольно часто приходилось наблюдать подобные сцены, так что ошибиться я не должен! Будет так: они еще немного поспорят, а потом девушка подойдет. Первыми всегда подходят девушки. Парни с независимым видом «охраняют периметр», будто им и дела никакого нет. Сильный пол…
Она спросит что-то вроде «Это и вправду Вы?!» Честно признаться, никогда не знал, что отвечать на этот вопрос, ведь вариантов ответа у него нет… Я – это и вправду я… Ох, дети, дети!
Но я так и не научился фотографироваться на улицах и раздавать автографы! Каждый раз краснею, как юнец! Мне казалось, что от этой муки время надежно меня застраховало… Неужели же подойдет?!
Девушка сделала шаг по направлению к старику, но кавалер бережно удержал ее за локоть и что-то убежденно зашептал…
– Нет, я, кажется, снова готов покраснеть! – старик заерзал на лавке, отвел глаза и выпрямил свой сутулый стан.
Девушка освободила локоть и шагнула, наконец, к старику. На лице ее застыло великое смущение, слегка прикрытое ласковой улыбкой. Старик встревожено хмыкнул, прочищая горло. Все-таки поставленный дикторский баритон – то, чем он всегда гордился…
– Но откуда? – скакали мысли в его голове, – откуда эти дети могут меня знать?! неужели они застали выпуски новостей, которые я вел? Сомневаюсь!
Девушка ускоряла шаги по мере того, как приближалась к скамейке. Старику вдруг захотелось не то расплакаться, не то разулыбаться (черт бы побрал эту старческую сентиментальность!). Чтобы скрыть предательскую слезинку он слегка отвернулся и незаметно промокнул уголок глаза рукавом плаща…
В этот короткий миг он услышал тихий звон. Повернувшись, старик увидел лишь быстро удаляющуюся спину девушки. В несколько шагов она подбежала к парню, ухватила его за руку и повлекла в темноту аллеи.
Старик опустил глаза. В шляпе, которая лежала слева на скамье, блестела горсть монет…
Кровь прилила к лицу и застучала в ушах. Болван! Болва-а-ан! Боже мой, как стыдно! Старик беззвучно шевелил губами, и, словно прозрев, разглядывал свой выгоревший плащ, потертый на швах, сильно запыленные старые туфли, мятую шляпу. Когда-то он считал себя франтом, любил и умел одеваться по моде. Неужели время незаметно похитило и это? Неужели в глазах прохожих он теперь лишь нищий оборванец?! В груди было очень больно…
Ладушка и Старик-часы
– Вам плохо? – спросила Ладушка. Старик поднял на нее голубые глаза, полные невыразимой тоски, глубоко вздохнул, но потом, взяв себя в руки, через силу улыбнулся и сказал приятным дикторским баритоном:
– Нет. Я до обидного здоров…
– Я про другое. Вам больно вот здесь… – сказала Ладушка, положив ладонь на грудь. Старик качнул головой – не то отрицательно, не то утвердительно. Ладушка осторожно присела на край скамьи и тронула потертый рукав плаща:
– Не спорьте. Я знаю. Я знаю про вас почти все! Скажите, ведь Вы сейчас думали про время?!
Старик удивленно вскинул седые брови.
– Ты права! – ответил он. – Но как ты догадалась?
– Вы думаете о нем всегда! Ведь вы же Хранитель времени. Сознайтесь! – Ладушка умоляюще посмотрела на своего собеседника.
– Признаться, я не совсем тебя понимаю… – с тихой печалью ответил старик.
– Пожалуйста! Признайтесь! – с жаром затараторила Ладушка. – Все равно завтра все тайны откроются, ведь папа же приезжает…
Старик с интересом посмотрел на светловолосую девочку с веснушками. Тоска в его глазах сменилась любопытством.
– И что бы ты хотела от меня услышать? – спросил он с едва заметной улыбкой.
– Все! Кого Вы увидели под капюшоном? Кто на самом деле Ночной Шутник?!
В глазах Ладушки было столько мольбы, что старик растерялся.
– Не может быть, чтобы Вы их всех не знали! – настаивала меж тем девушка. – Вон, смотрите! Софья Антоновна и ее собаки! Она хромает из-за того, что ее подвела алхимия. Ведь правда?!
Ладушкин собеседник взглянул в конец аллеи, где брела, сильно прихрамывая, неопрятная старуха. Перед нею, лениво переваливаясь с боку на бок, трусили две белые собачонки, связанные одним поводком.
– Да, – согласился он, – это Софья Антоновна.
– Вот видите! – торжествующе воскликнула Ладушка!
– Это Софья Антоновна. Она живет неподалеку. Я был немного знаком с ее мужем. Кажется, его звали Григорий Семёнович. Он был главным инженером на заводе, а она всю жизнь преподавала химию… Но сейчас она несколько… Выжила из ума.
Неожиданно Ладушка сникла. Под ее веснушками загорелся румянец. Она опустила глаза и пробормотала:
– Извините! Я, конечно, выгляжу, как сумасшедшая… Просто мне показалось, что Вы… Извините!
Она вскочила со скамьи с намерением убежать, и даже сделала несколько шагов, но ее остановил чистый, глубокий, с небольшой оттяжкой в бас, голос:
– Постой, девочка! Ты никуда не спешишь?
Ладушка остановилась и боязливо взглянула на своего собеседника. Перед нею на скамье сидел, выпрямившись, уже не старик в потертом плаще, а строгий и величавый Хранитель времени Почти Волшебного Королевства.
– Садись и расскажи мне все по порядку! – не то попросил, не то приказал он.
Ладушка послушно вернулась на свое место и, в волнении теребя ремешок сумки, пробормотала:
– Вы не подумайте, что я какая-нибудь дурочка… Только мне снится то, что потом становится правдой. Вот Софья Антоновна, например. Откуда я знаю, как ее зовут, и что она занимается алхимией? Ну, то есть, преподавала химию?! Вы скажете, что я могла это где-нибудь услышать, потом забыть, а теперь снова нечаянно вспомнить. Но на самом деле я знаю это из своих снов… И вас я тоже хорошо знаю! Вы храните время Почти Волшебного королевства и носите его за своими плечами!
Старик, если и удивился, то виду не подал. Он подался вперед и с большим вниманием слушал девушку. Поначалу путано и с запинками, но потом, все больше увлекаясь, Ладушка рассказала про похищение королевского слона Арчибадьда, и спасительный снег принцессы Ладушки, который утром выпал на самом деле. Про неудавшийся фейерверк Софьи Антоновны и молодильные бананы. Про сэра Николаса Дюкса, заточенного в башне. Она поведала про вещий светофор и, смущаясь, рассказала о стихотворении, которое пишется само по себе и будто направляет ее в поисках.
– Вы можете смеяться, – завершила она свой рассказ, – но это не просто выдумки. Ночной Шутник бывает здесь, в парке, каждое утро. Когда выпал первый снег, он вылепил для меня Арчибальда на площади Трех Трубачей. По четвергам он развешивает бананы в дубовой роще. А еще я подозреваю, что это он кладет конфету в дупло Вкусной елки и пишет записку «Тебе от нас!», чтобы я думала, будто меня угощают синицы… Елка растет недалеко! Вот за тем поворотом! Если не верите, пойдем и посмотрим вместе!
– Я верю… – кивнул старик. Ладушка приободрилась:
– Ночной Шутник оставил для меня загадку. Он написал ее прямо на парковой ограде. Я должна была найти Меч в окне, льва по имени Самус и странную штуку – анаболик Мотебудан. Я честно искала! И даже нашла что-то… И папа в награду написал мне, что приезжает завтра утром. Но я все равно ничего не могу понять. Ведь если папа не в городе, а только собирается приехать, то кто же тогда был все это время Ночным Шутником?! Кого Вы увидели сегодня ночью под капюшоном? Когда я повстречала вас сегодня утром на аллее, мне показалось, что вы это знаете…
– Прости, девочка… – произнес с ласковой грустью старик. – Мне жаль, но я не помню, кого я видел сегодня ночью. Я точно помню только небольшой приступ стенокардии… Но я хочу попросить тебя: давай поговорим еще немного, и, может быть, я вспомню… Например, скажи-ка: неужели мои шаги и впрямь так похожи на ход часов?
– Очень! – убежденно кивнула Ладушка. – А еще вы задаете темп всему утреннему оркестру!
– Оркестру? – удивился старик.
В это время вдалеке раздался радостный скрип: по аллее шагал крепыш лет сорока в резиновых сапогах и зеленой ветровке, сплошь увешанной значками и нашивками. На лице его сияла радостная улыбка.
– Смотрите! – шепнула Ладушка. – Это Человек-Привет! Он тоже играет в нашем оркестре! Мне кажется, что каждое утро он выходит из дома только для того, чтобы дарить окружающим свою улыбку и заставлять их улыбнуться. Он всегда носит с собою сумку-авоську. Пусть это глупо, но в авоське у него – тоже улыбки…
Позитивный крепыш прошагал мимо скамейки и едва заметно кивнул старику. Тот кивнул в ответ.
– Вы его знаете?! – удивилась Ладушка. – Ну, скажите же, я угадала?!
Старик молчал. Он и впрямь хорошо знал Сереженьку – сына своего соседа профессора Кравцова. Профессор давно умер, но Сереженька по сей день жил в отцовской квартире. Когда-то давно он очень увлекся скаутским движением. Настолько, что уволился с работы и все дни стал проводить в клубе скаутов, учась вязать узлы, изучая следы птиц и зарабатывая значки с нашивками.


