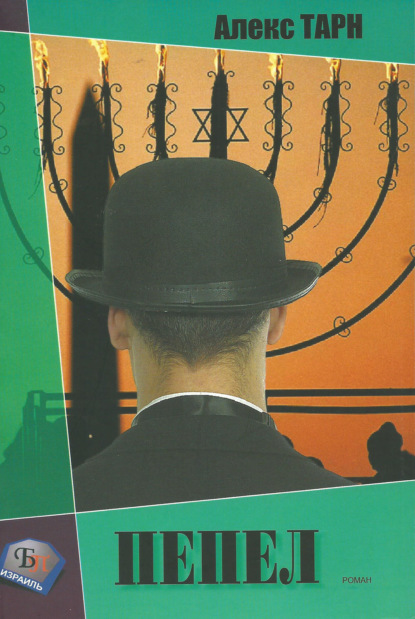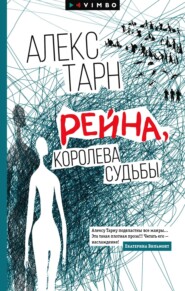По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пепел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самое смешное, что так оно и случилось. Натерпеться-то я натерпелся, это да… но по-настоящему опытный человек… Что? Что такое по-настоящему опытный? Ну, это просто, Ваша честь. По-настоящему – это значит в науке выживания. Любой другой опыт – не настоящий. Я так думаю. Вернее, так меня учит мой собственный настоящий опыт, гвоздики с колечками. Так вот, по-настоящему опытный человек знает, что он действительно сотворен из глины, но подобен Богу.
А практически это означает такую интересную вещь. Неважно, что делают с твоим телом, потому что это всего-навсего глина. Пусть себе мнут и давят как угодно, лишь бы не отрывали от него куски, лишь бы потом можно было аккуратненько слепить себя заново. Но пока они это делают с глиной, ты должен обязательно помнить о своей богоподобности. А Бог, он ведь что сделал? Сотворил этот мир, будь он прок… извините, Ваша честь, это меня куда-то не туда занесло. Я всего-то и хотел сказать, что в такие моменты нужно сотворить себе отдельный мир, но не такой, где гнут и корежат твою глину, а другой, замечательно красивый и очень удобный для повседневной человеческой жизни… и просто жить в нем, вот и все.
А терпение всегда идет в зачет, особенно бескорыстное… впрочем, это я уже говорил. Кто-то может сказать, что во всем этом деле была у меня своя, личная корысть, но видит Бог, это не так. Конечно, потом, когда мы начали вместе работать бок о бок в лагерной слесарке, я был счастлив, и поэтому вроде бы действительно выходит корысть, но, с другой стороны, это и не корысть вовсе – ведь я был счастлив только тем, что уберег его, Йозефа. Хотя опять же… в общем, не знаю, не знаю… совсем я с этим запутался, но вы-то уж точно разберетесь, правда ведь, Ваша честь? Потому что если не вы то кто же тогда разберется?
А счастье было. Да, да. Это кажется невероятным, но я был необыкновенно счастлив в той темной слесарке посреди концлагеря, вжикая напильником рядом с моим мальчуганом. Я спас его от смерти с самого начала. Я спасал его от смерти каждый божий день, проводя по единственно верным тропинкам, подбрасывая недостающие до нормы детали, запихивая в спасительную толпу в моменты опасности. Я был его проводником в аду, как Вергилий для Данте. Грех сказать, но временами я благодарил Бога за то, что он устроил мне эту удивительную декорацию: Гитлера, нацистов, Дахау, Хрустальную ночь и упрямого папашу-профессора. Ведь не случись этого, не случилось бы и самых счастливых недель в моей жизни.
Сначала я смотрел на него, на его чистый профиль, склоненный над тисками, на его тонкие руки, сжимающие напильник, на пушистые ресницы, забавно вздрагивающие при каждом усилии. Я смотрел осторожно, вовремя отворачиваясь, чтобы не смутить и не причинить ему лишнего неудобства. А потом мне уже не требовалось смотреть прямо – я видел его и так, самым краешком глаза, боковым зрением, как собака. Я видел его даже затылком, спиной, локтем – чем угодно. Скорее всего, я видел его всем своим существом, Ваша честь, всем телом… по-моему, недавно я назвал тело глиной? – так вот, я видел его всей своей глиной, вернее, его присутствие делало мою глину зрячей. Зрячей и счастливой, да простит меня Ваша честь за неуместную высокопарность. Просто я не знаю, как выразить это по-другому.
Он говорил: «Карузо, без тебя я не выжил бы здесь и дня». И это была сущая правда – как сказать «солнце восходит на востоке» или «эсэсовец не бывает добрым». Но тем не менее, я попадал прямиком на седьмое небо, стоило мне только услышать от него эти слова. Йозеф часто рассказывал мне о своей семье, о том, кем он хотел стать и где учиться, пока не выяснилось, что все эти планы не подходят для нынешней Германии. Папаша толкал его на свою химию или физику, в Геттингенский университет, где сам он когда-то учился у каких-то знаменитостей. А мальчика тянуло к музыке, но он и думать не мог ослушаться своего упрямого родителя. Йозеф как-то сказал мне, что обрадовался запрету на поступление в университеты, потому что избавился таким образом от нелюбимого дела. Ну не смешно ли, Ваша честь? Если я чему-то и научился у Йозефа, так это чисто еврейской манере находить положительные стороны даже в самой что ни на есть черноте.
Зато папашу-профессора я прямо-таки возненавидел. Думаю, эта ненависть происходила от ревности – уж больно Йозеф его боготворил. Часто я не мог удержаться и отпускал разные ядовитые замечания по папашиному адресу, на что Йозеф всякий раз произносил пылкую защитительную речь. При этом он частенько так увлекался, что прекращал работать, и мне приходилось следить в три глаза, чтобы капо, не дай бог, не заметил. Каждый такой перерыв добавлял мне седых волос и пару дополнительных уголков к моей и без того большой норме, но овчинка стоила выделки. Как он был красив, мой Иосиф Прекрасный! Как сладко лился его голос прямиком в мое замирающее от любви сердце!
Я упомянул, что он был музыкален необыкновенно… а может, и обыкновенно – не знаю, не мне судить. Мне все в нем казалось необыкновенным. Одно я могу вам сказать, Ваша честь: Йозеф мог напеть любую арию, что из Верди, что из Вагнера, а «Лоэнгрина» так и просто знал наизусть – всю оперу, до последнего звука. Каждое утро в слесарке начиналось у нас с того, что мы выбирали сегодняшнюю программу: оперу, состав исполнителей и даже дирижера. Ведь Йозеф мог изображать разные манеры и темп исполнения. А потом он тихонько напевал мне замечательные спектакли. Ах, Ваша честь! Любой скажет вам, что Дахау был адом на земле. Но для меня он стал раем небесным… можно ли такое представить?
А потом настал день, когда все кончилось. Видимо, Господь посчитал, что невозможно давать одному человеку так много счастья в течение столь долгого времени. Но я на Него за это не в обиде, Ваша честь: в конце концов, что-то должно ведь достаться и остальному человечеству. Да и вообще, я очень благодарен Всевышнему за небольшую сделку, которую мы с Ним заключили немного позже. Но обо всем по порядку. В тот день мы выбрали «Лоэнгрина». Там есть такое чудесная сцена из третьего действия, когда Лоэнгрин и Эльза остаются вдвоем, и он поет:
Приди ко мне, моя отрада,
Прижмись скорей к моей груди!
Твой взор сияет мне наградой,
Мой чудный сон, не уходи!
Гм… Извините, Ваша честь… Теперь вы понимаете, отчего меня прозвали Карузо… Поверьте, в моей душе эта волшебная ария звучит без малейшей фальши, с удивительной чистотой и силой. Просто поразительно, как это, выходя наружу, она превращается в такой ужасающе фальшивый скрежет? Но, знаете, если уж Создатель хочет потешить свое тонкое чувство юмора, то пускай смеется над нами только таким образом… В общем, это мое любимое место. Оттого-то я и потерял свою прославленную бдительность – всего на пару минуток, на пару минуток. А у Йозефа ее и вовсе никогда не было. Он уже начал за Эльзу: «О, нет! Я безутешна!»… – и тут сквозь вжиканье напильников мы услышали характерное поскрипывание.
У эсэсовских сапог есть особый звук, Ваша честь, когда их обладатель задумчиво покачивается с пятки на носок, прикидывая, убить тебя тут же, на месте, или прежде помучить. Я обернулся и понял, что произошло непоправимое. Прямо за нашими спинами стоял господин Штайгер, лагерфюрер Дахау собственной персоной. Лагерфюрер, Ваша честь, отвечает в концлагере за дисциплину. В отличие от большинства своих коллег, бывших садистами по призванию, Штайгер был им еще и по должности. За плечом Штайгера виднелся наш капо, зажмуривший глаза от ужаса, как суслик перед надвигающейся грозой. Во всей слесарке уже наступила мертвая тишина, и только Йозеф, как ополоумевший соловей, продолжал выводить эльзину руладу. Это длилось бесконечно, но наконец и он понял, что происходит что-то неладное.
– Так-так, – бесстрастно сказал Штайгер. – Дерьмовый жидовский наглец. Марает Вагнера. Германскую гордость. Германскую честь. Своим поганым жидовским ртом.
Он всегда говорил так – короткими рублеными фразами. Они шелестели в наших ушах, как нож гильотины, а точки падали, как удар, как отрубленная голова в корзину.
– Это Вагнер, – сказал Штайгер. – А это жид. Ты что, не понимаешь разницу?
Он обращался к Йозефу, а тот стоял напротив него с трясущимися губами, белый как полотно.
– Я… я… извините… – пробормотал он.
– Если собака пачкает, собаку учат, – сказал Штайгер и обернулся к капо. – Положите его сюда. – Он указал на верстак.
«Ты – глина, – сказал я себе. – Ты – глина». Но это не помогло, Ваша честь, потому что теперь речь шла не о моем теле, а о Йозефе, о Йозефе, который был мне дороже всего, дороже всех сокровищ в мире и, уж конечно, дороже моей собственной жизни. Если бы это могло помочь, я точно бросился бы на Штайгера; я бы задушил его, я бы загрыз его, я бы рвал его на куски и жрал бы их сырыми, лишь бы только спасти моего мальчика от этой гадины. Но к несчастью, любое сопротивление означало немедленную смерть всех присутствующих, а значит, и Йозефа тоже. Единственный шанс заключался в терпении, Ваша честь, и я терпел.
Йозефа положили на верстак. Штайгер взял в руки напильник.
– Пой, – сказал он. – Сейчас ты поймешь, что Вагнер несовместим с жидами. Пой!!
Йозеф запел. Даже тогда, еле живой от страха, он пел не фальшивя. Штайгер ударил его напильником в рот. Я отвернулся, Ваша честь, я не мог больше смотреть. Думаю, что сердце мое не разорвалось только потому, что Йозефу могла понадобиться помощь. Я слышал звуки ударов и голос Штайгера.
– Вместе с зубами! – кричал он. – Я вобью в тебя твою наглость вместе с зубами! Пой! Пой!
Потом раздался звон напильника о каменный пол слесарки, и я посмотрел. Йозеф лежал на верстаке с окровавленным ртом, с безумными глазами, но живой! Живой! Штайгер поправил воротничок и пошел к выходу. Неужели пронесло? Однако я рано радовался. На пороге лагерфюрер остановился и обернулся к капо:
– На баум его! Пока не сдохнет.
Я почувствовал, как земля поплыла у меня под ногами. Баум, Ваша честь, это такой столб, на который у нас подвешивали провинившихся заключенных. Связывали руки за спиной, потом цепляли за запястья и, выворачивая плечи, вздергивали на баум, как на дыбу. Боль жуткая – такая, что люди даже кричат как-то по-особому, как-то блеют будто, а не кричат. А потом перестают и блеять, просто впадают в безумие.
Страшнее пытки люди не придумали за всю историю, Ваша честь, а уж на что способно изобретательное человеческое воображение, вам и без меня известно. Дыба ужасна особенно тем, что не дает умереть быстро. Ни тебе открытых ран, ни тебе воспалений – ничего такого, что помогло бы уплыть в бесчувствие, убежать в смерть. Одна только длящаяся боль, достаточно сильная, чтобы свести с ума, но недостаточная для потери сознания. Даже несколько секунд на бауме кажутся вечностью. Подумайте об этом, Ваша честь, и вы поймете, что означал для Йозефа и для меня приговор Штайгера – «пока не сдохнет». И за что?! За что?! Что он такого совершил, этот мальчик, чтобы заслужить столь ужасный конец, столь неимоверные страдания?!
Конечно, Ваша честь, я не адресую этот вопрос Штайгеру. Нет-нет, я не настолько наивен – эсэсовцам никогда не требовалась причина. Я спрашиваю Его, Господа Бога. Даже если предположить, что Йозеф самолично распял Господнего Сына на кресте, ага, самолично, Ваша честь, вот этими своими тонкими руками музыканта и профессорского сынка… даже если поверить в это – все равно тяжесть подобной смерти тысячекратно перевешивала любые крестные муки Господа нашего Иисуса, прости меня, Боже, и помилуй, прости и помилуй, прости и помилуй…
Извините… даже сейчас я схожу с ума, стоит мне вспомнить это штайгеровское «пока не сдохнет», и ухмыляющегося капо, и безумные глаза моего мальчика, распростертого на верстаке… а ведь прошло столько лет, Ваша честь, столько лет! Можете себе представить, что происходило со мною тогда. Я никогда не забуду того ужасного ступора, в который я впал: что-то вроде столбняка, из тех, что сковывает вас в разгар ночного кошмара, когда все ваше существо требует немедленного действия – иначе не спастись, – и в то же время вы не в состоянии пошевелить даже пальцем. Другие заключенные помогли Йозефу слезть с верстака и повели его к водопроводному крану – промыть рот, а я все стоял без движения, как истукан.
Минуты тянулись и летели – мучительно медленно и мучительно быстро, опять же как это бывает только в страшном сне. Штайгер был слишком важной шишкой, чтобы собственноручно волочить на баум проштрафившегося заключенного. Поэтому для исполнения приговора наш капо ждал коммандфюрера… – так, Ваша честь, называется эсэсовец, который поставлен над каждой рабочей командой. Йозеф там и скорчился, где его оставили – на полу, около крана, а остальным приказали вернуться к работе. Видимо, я продолжал стоять без движения, потому что капо врезал мне дубинкой пониже спины. Я автоматически взял в руки напильник и начал вжикать им по металлу. Странно, но именно эта привычная последовательность действий вывела меня из ступора. И что, вы думаете, что я начал делать, Ваша честь?.. Ничего себе! Как вы догадались? Аа-а… да, я действительно частенько поминаю Бога… с того самого случая. Но, в общем, так или иначе, вы правы – я начал молиться.
Я предложил Ему сделку.
«Боже! – сказал я. – Мне ничего не понятно в созданном Тобой мире. Если Ты добр, то зачем создал ад, Штайгера и Дахау? Если же Ты зол, то зачем даровал мне Йозефа и трехмесячное счастье в самой сердцевине этого ада? Как видишь, я не разбираюсь ни в прошлом, которое уже случилось, ни в настоящем, которое сейчас торчит передо мною этой зажатой в тисках деталью, которое стонет в углу окровавленным ртом моего мальчика. Что уже тогда говорить о будущем? Темны для меня Твои планы и намерения, Господи. Может быть, Ты хочешь именно Йозефа, а может быть, наоборот, тебе сойдет любая душа, даже такая бестолковая, как моя. Возьми меня вместо него, Господи! Возьми меня! Я обещаю Тебе все… все… все, что обещал бы, если бы только знал, что Тебе нужно. Вот Тебе карт-бланш, Господи, пустой лист с моей подписью внизу – заполни сам, напиши все, что пожелаешь; клянусь, не пикну даже единым писком, все приму с радостью и послушанием. Только спаси его, Господи, спаси его!»
Так я молился, Ваша честь, примерно такими словами, только намного горячей. А поскольку Бог, по своему обыкновению, молчал как рыба, то мне пришлось озаботиться более приземленным вариантом. Под моим вжикающим напильником быстро формировалась острая полосочка металла – заточка, милосердное орудие йозефового спасения. Я творил ее, продолжая разговаривать с Богом, творил из ребра металлической заготовки, в точности как Бог творил Еву из ребра Адама, чтобы затем снова засунуть ее под ребро, прямо в адамово сердце. Прямо в сердце Йозефу была нацелена и эта заточка – быстрая и безболезненная смерть, счастливый побег от мучителей, прямо в сердце. Я торопился, заговаривая зубы Богу, потому что времени оставалось мало. Надо было обязательно успеть до прихода коммандфюрера. Мой план был прост и эффективен. Йозеф сидел прямо около крана, а значит, никто не заподозрил бы ничего особенного в моем приближении: подходить к воде в слесарке разрешалось. Заточка легко пряталась в рукаве. Всего-то и нужно было, что быстро наклониться и воткнуть ее прямо в сердцевину шестиконечной звезды, прямо в сердце моего Йозефа. Дальнейшее не имело никакого значения, поэтому о дальнейшем я и не думал, полностью предоставив его Богу – большому специалисту по этой части.
Я уже заканчивал заточку, когда дверь отворилась, и вошел коммандфюрер. Сволочь-капо сразу же бросился к нему, вихляя задом. Он бормотал, кланяясь и показывая на Йозефа, а эсэсовец слушал, брезгливо морщился и почему-то отрицательно покачивал головой. Я взялся за тиски, но руки мои тряслись, Ваша честь; вся моя сила уходила на эту тряску, и проклятый винт не поддавался, как будто затянул его не я, а какой-нибудь великан. Мной овладела настоящая паника, я ужасно боялся опоздать. Оглянувшись, я увидел, что коммандфюрер оттолкнул капо и двинулся по направлению к Йозефу. В отчаянии я всем телом налег на тиски, они разжались – и заточка со звоном упала под верстак. Мне показалось, что вся слесарка обернулась на этот звук. Раздумывать было некогда, и я нырнул под верстак, ища заточку, а она, гадина, все не находилась, как будто провалилась сквозь каменные плиты.
«Встать!» – услышал я команду эсэсовца, обращенную к Йозефу, и тут заточка, будто испугавшись этого крика, сама прыгнула мне в руку из какой-то укромной складки. Я сунул ее в рукав и распрямился. Эсэсовец стоял над Йозефом и пинал его сапогом, а тот пытался встать и не мог.
– Встать! – снова заорал коммандфюрер. – Эй вы, кто-нибудь! А ну, поднять это жидовское дерьмо!
Ясно, что никто, кроме меня, не отозвался на этот призыв. Кто же пойдет к эсэсовцу добровольно? Я подбежал, схватил Йозефа под мышки и приподнял. Воткнуть заточку сразу не выходило из-за того, что, пытаясь встать, мой мальчик мельтешил руками, и оттого хорошего, точного удара не получилось бы. А мне ведь важно было закончить дело без боли. Я поднял Йозефа на ноги, уткнулся лицом в его шелковистые волосы, опустил правую руку, и заточка сама скользнула в мою ладонь.
«Не бойся, Йос, – шепнул я ему в самое ухо. – Я спасу тебя, мальчик, сейчас… сейчас…»
– Тебе повезло, дерьмо, – сказал эсэсовец. – Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Твои жиды-родственнички из твоей жидовской Америки выкупили твою тощую жидовскую задницу. Даю тебе три минуты на то, чтобы прибыть в регистрационный блок. Шагом марш!
Ваша честь! Люди часто думают, что Бог если и обращается к человеку, то громовым рыком из грозовой небесной тучи… но это не так, Ваша честь! Он разговаривает самыми разными голосами, уж я-то знаю. Тогда, в Дахау, Он визжал гадким эсэсовским фальцетом, пересыпая каждое свое слово грязными ругательствами, но не было во всем Творении речи божественней, чем та Его речь! Он принял мое предложение! Наша сделка состоялась! Хе-хе…
Вот, собственно, и все, Ваша честь. Бог позволил мне довести Йозефа до регистрационного блока, где я сдал его с рук на руки дежурному вахтману. Он действительно выходил на свободу, мой светлый мальчик! На свободу! Такое случалось в те годы – редко, но случалось. Он выходил с порванным ртом, без зубов – подлец Штайгер выбил ему все передние зубы и еще несколько слева – всего штук десять-двенадцать. Но кто считает такие мелочи? Главное – он остался жив! Жив! И я был счастлив его свободой и жизнью. Так мы и расстались, Ваша честь, навсегда.
Конечно, расставания всегда тяжелы, но с другой стороны – смотря с чем сравнивать. Не думаю, что я смог бы выдержать вид моего мальчика, умирающего на бауме. Я уже говорил, Ваша честь, что наша любовь бескорыстна и умеет радоваться радостью любимых больше, чем своей собственной. Чудесное освобождение Йозефа было как раз таким случаем, в чистом виде, гвоздики с колечками… Это был самый большой подарок, который я мог бы получить тогда, самый большой. Не знаю, поверите ли вы мне, но своему освобождению я бы радовался меньше. Не верите? Ну и ладно, неважно… Я? А это уже совсем неважно, Ваша честь. Мы ведь заключили с Ним сделку. Баш на баш. Он честно выполнил свою часть, и теперь мне оставалось просто спокойно ждать, когда Ему вздумается, наконец, прийти за моей. Это случилось не сразу. Хотя кто знает, как там у Него течет время? Наш день вполне может быть для Него годом, а столетие – секундой. Я же, со своей стороны, не возражал… хе-хе… куда тут торопиться?
Что?.. Ну, только если вы особо настаиваете, потому что вообще-то моя смерть к делу Йозефа не очень-то и относится, не так ли? Да нет, какие там секреты, Ваша честь? Секреты?.. У меня – от вас?..
Наш лагерь был окружен деревьями, замечательно красивыми, здоровыми и рослыми растениями с множеством листьев. Последнее обстоятельство весьма существенно, Ваша честь. Дело в том, что осенью листья имеют обыкновение осыпаться, такая вот неприятность, гвоздики с колечками… Почему неприятность? Да потому, что комендант ненавидел мусор в любом его проявлении. За чистотой территории следила специальная команда, и боже упаси, если какой-нибудь крохотный желтый листок оставался неподобранным!
Осенью сорок третьего в слесарку не завезли сырье, и нас от нечего делать направили на уборку. Все обрадовались, потому что листопад уже прошел, и деревья стояли голыми, так что работы считай и не было никакой. А погода была удивительная. Знаете, Ваша честь, эти осенние баварские утренники, с прозрачным небом, полным чистого прохладного воздуха, и мокрыми полями за изгородью? В общем, дышалось поразительно хорошо.
Я быстро убрал свой участок, подмел дорожку, обнаружив при этом замечательно длинный окурок, затем несколько раз прошелся туда-сюда, чтобы окончательно удостовериться, что все в полном порядке, и присел на корточки перекурить. Ах, какая все-таки стояла тогда погода – всюду, и в природе, и на сердце! Я курил и думал о Йозефе, представляя, как он гуляет сейчас по Манхэттену, или сидит в каком-нибудь бродвейском баре, или так же, как я, смотрит на деревья, но не здесь, а в своем Сентрал-парке. Мне было покойно и хорошо.
Господь дал мне докурить окурок до самого конца и только тогда пнул меня в спину эсэсовским сапогом. От неожиданности я ткнулся лицом в землю. Надо мною стоял наш коммандфюрер.
– Куришь, вонючка? – прошипел он в гневе. – Куришь? А это что там такое, раздолбанная задница? А? Это что такое?
Я посмотрел в направлении его указующего перста. На идеально чистой дорожке лежал лист, обычный осенний лист. Я сразу понял, что это такое, Ваша честь. Ведь на самом деле, прежде чем присесть на перекур, я тщательнейшим образом осмотрел все деревья на своем участке. Готов поклясться чем угодно – они были абсолютно голыми, ни единого листочка. Ни единого, Ваша честь!
А практически это означает такую интересную вещь. Неважно, что делают с твоим телом, потому что это всего-навсего глина. Пусть себе мнут и давят как угодно, лишь бы не отрывали от него куски, лишь бы потом можно было аккуратненько слепить себя заново. Но пока они это делают с глиной, ты должен обязательно помнить о своей богоподобности. А Бог, он ведь что сделал? Сотворил этот мир, будь он прок… извините, Ваша честь, это меня куда-то не туда занесло. Я всего-то и хотел сказать, что в такие моменты нужно сотворить себе отдельный мир, но не такой, где гнут и корежат твою глину, а другой, замечательно красивый и очень удобный для повседневной человеческой жизни… и просто жить в нем, вот и все.
А терпение всегда идет в зачет, особенно бескорыстное… впрочем, это я уже говорил. Кто-то может сказать, что во всем этом деле была у меня своя, личная корысть, но видит Бог, это не так. Конечно, потом, когда мы начали вместе работать бок о бок в лагерной слесарке, я был счастлив, и поэтому вроде бы действительно выходит корысть, но, с другой стороны, это и не корысть вовсе – ведь я был счастлив только тем, что уберег его, Йозефа. Хотя опять же… в общем, не знаю, не знаю… совсем я с этим запутался, но вы-то уж точно разберетесь, правда ведь, Ваша честь? Потому что если не вы то кто же тогда разберется?
А счастье было. Да, да. Это кажется невероятным, но я был необыкновенно счастлив в той темной слесарке посреди концлагеря, вжикая напильником рядом с моим мальчуганом. Я спас его от смерти с самого начала. Я спасал его от смерти каждый божий день, проводя по единственно верным тропинкам, подбрасывая недостающие до нормы детали, запихивая в спасительную толпу в моменты опасности. Я был его проводником в аду, как Вергилий для Данте. Грех сказать, но временами я благодарил Бога за то, что он устроил мне эту удивительную декорацию: Гитлера, нацистов, Дахау, Хрустальную ночь и упрямого папашу-профессора. Ведь не случись этого, не случилось бы и самых счастливых недель в моей жизни.
Сначала я смотрел на него, на его чистый профиль, склоненный над тисками, на его тонкие руки, сжимающие напильник, на пушистые ресницы, забавно вздрагивающие при каждом усилии. Я смотрел осторожно, вовремя отворачиваясь, чтобы не смутить и не причинить ему лишнего неудобства. А потом мне уже не требовалось смотреть прямо – я видел его и так, самым краешком глаза, боковым зрением, как собака. Я видел его даже затылком, спиной, локтем – чем угодно. Скорее всего, я видел его всем своим существом, Ваша честь, всем телом… по-моему, недавно я назвал тело глиной? – так вот, я видел его всей своей глиной, вернее, его присутствие делало мою глину зрячей. Зрячей и счастливой, да простит меня Ваша честь за неуместную высокопарность. Просто я не знаю, как выразить это по-другому.
Он говорил: «Карузо, без тебя я не выжил бы здесь и дня». И это была сущая правда – как сказать «солнце восходит на востоке» или «эсэсовец не бывает добрым». Но тем не менее, я попадал прямиком на седьмое небо, стоило мне только услышать от него эти слова. Йозеф часто рассказывал мне о своей семье, о том, кем он хотел стать и где учиться, пока не выяснилось, что все эти планы не подходят для нынешней Германии. Папаша толкал его на свою химию или физику, в Геттингенский университет, где сам он когда-то учился у каких-то знаменитостей. А мальчика тянуло к музыке, но он и думать не мог ослушаться своего упрямого родителя. Йозеф как-то сказал мне, что обрадовался запрету на поступление в университеты, потому что избавился таким образом от нелюбимого дела. Ну не смешно ли, Ваша честь? Если я чему-то и научился у Йозефа, так это чисто еврейской манере находить положительные стороны даже в самой что ни на есть черноте.
Зато папашу-профессора я прямо-таки возненавидел. Думаю, эта ненависть происходила от ревности – уж больно Йозеф его боготворил. Часто я не мог удержаться и отпускал разные ядовитые замечания по папашиному адресу, на что Йозеф всякий раз произносил пылкую защитительную речь. При этом он частенько так увлекался, что прекращал работать, и мне приходилось следить в три глаза, чтобы капо, не дай бог, не заметил. Каждый такой перерыв добавлял мне седых волос и пару дополнительных уголков к моей и без того большой норме, но овчинка стоила выделки. Как он был красив, мой Иосиф Прекрасный! Как сладко лился его голос прямиком в мое замирающее от любви сердце!
Я упомянул, что он был музыкален необыкновенно… а может, и обыкновенно – не знаю, не мне судить. Мне все в нем казалось необыкновенным. Одно я могу вам сказать, Ваша честь: Йозеф мог напеть любую арию, что из Верди, что из Вагнера, а «Лоэнгрина» так и просто знал наизусть – всю оперу, до последнего звука. Каждое утро в слесарке начиналось у нас с того, что мы выбирали сегодняшнюю программу: оперу, состав исполнителей и даже дирижера. Ведь Йозеф мог изображать разные манеры и темп исполнения. А потом он тихонько напевал мне замечательные спектакли. Ах, Ваша честь! Любой скажет вам, что Дахау был адом на земле. Но для меня он стал раем небесным… можно ли такое представить?
А потом настал день, когда все кончилось. Видимо, Господь посчитал, что невозможно давать одному человеку так много счастья в течение столь долгого времени. Но я на Него за это не в обиде, Ваша честь: в конце концов, что-то должно ведь достаться и остальному человечеству. Да и вообще, я очень благодарен Всевышнему за небольшую сделку, которую мы с Ним заключили немного позже. Но обо всем по порядку. В тот день мы выбрали «Лоэнгрина». Там есть такое чудесная сцена из третьего действия, когда Лоэнгрин и Эльза остаются вдвоем, и он поет:
Приди ко мне, моя отрада,
Прижмись скорей к моей груди!
Твой взор сияет мне наградой,
Мой чудный сон, не уходи!
Гм… Извините, Ваша честь… Теперь вы понимаете, отчего меня прозвали Карузо… Поверьте, в моей душе эта волшебная ария звучит без малейшей фальши, с удивительной чистотой и силой. Просто поразительно, как это, выходя наружу, она превращается в такой ужасающе фальшивый скрежет? Но, знаете, если уж Создатель хочет потешить свое тонкое чувство юмора, то пускай смеется над нами только таким образом… В общем, это мое любимое место. Оттого-то я и потерял свою прославленную бдительность – всего на пару минуток, на пару минуток. А у Йозефа ее и вовсе никогда не было. Он уже начал за Эльзу: «О, нет! Я безутешна!»… – и тут сквозь вжиканье напильников мы услышали характерное поскрипывание.
У эсэсовских сапог есть особый звук, Ваша честь, когда их обладатель задумчиво покачивается с пятки на носок, прикидывая, убить тебя тут же, на месте, или прежде помучить. Я обернулся и понял, что произошло непоправимое. Прямо за нашими спинами стоял господин Штайгер, лагерфюрер Дахау собственной персоной. Лагерфюрер, Ваша честь, отвечает в концлагере за дисциплину. В отличие от большинства своих коллег, бывших садистами по призванию, Штайгер был им еще и по должности. За плечом Штайгера виднелся наш капо, зажмуривший глаза от ужаса, как суслик перед надвигающейся грозой. Во всей слесарке уже наступила мертвая тишина, и только Йозеф, как ополоумевший соловей, продолжал выводить эльзину руладу. Это длилось бесконечно, но наконец и он понял, что происходит что-то неладное.
– Так-так, – бесстрастно сказал Штайгер. – Дерьмовый жидовский наглец. Марает Вагнера. Германскую гордость. Германскую честь. Своим поганым жидовским ртом.
Он всегда говорил так – короткими рублеными фразами. Они шелестели в наших ушах, как нож гильотины, а точки падали, как удар, как отрубленная голова в корзину.
– Это Вагнер, – сказал Штайгер. – А это жид. Ты что, не понимаешь разницу?
Он обращался к Йозефу, а тот стоял напротив него с трясущимися губами, белый как полотно.
– Я… я… извините… – пробормотал он.
– Если собака пачкает, собаку учат, – сказал Штайгер и обернулся к капо. – Положите его сюда. – Он указал на верстак.
«Ты – глина, – сказал я себе. – Ты – глина». Но это не помогло, Ваша честь, потому что теперь речь шла не о моем теле, а о Йозефе, о Йозефе, который был мне дороже всего, дороже всех сокровищ в мире и, уж конечно, дороже моей собственной жизни. Если бы это могло помочь, я точно бросился бы на Штайгера; я бы задушил его, я бы загрыз его, я бы рвал его на куски и жрал бы их сырыми, лишь бы только спасти моего мальчика от этой гадины. Но к несчастью, любое сопротивление означало немедленную смерть всех присутствующих, а значит, и Йозефа тоже. Единственный шанс заключался в терпении, Ваша честь, и я терпел.
Йозефа положили на верстак. Штайгер взял в руки напильник.
– Пой, – сказал он. – Сейчас ты поймешь, что Вагнер несовместим с жидами. Пой!!
Йозеф запел. Даже тогда, еле живой от страха, он пел не фальшивя. Штайгер ударил его напильником в рот. Я отвернулся, Ваша честь, я не мог больше смотреть. Думаю, что сердце мое не разорвалось только потому, что Йозефу могла понадобиться помощь. Я слышал звуки ударов и голос Штайгера.
– Вместе с зубами! – кричал он. – Я вобью в тебя твою наглость вместе с зубами! Пой! Пой!
Потом раздался звон напильника о каменный пол слесарки, и я посмотрел. Йозеф лежал на верстаке с окровавленным ртом, с безумными глазами, но живой! Живой! Штайгер поправил воротничок и пошел к выходу. Неужели пронесло? Однако я рано радовался. На пороге лагерфюрер остановился и обернулся к капо:
– На баум его! Пока не сдохнет.
Я почувствовал, как земля поплыла у меня под ногами. Баум, Ваша честь, это такой столб, на который у нас подвешивали провинившихся заключенных. Связывали руки за спиной, потом цепляли за запястья и, выворачивая плечи, вздергивали на баум, как на дыбу. Боль жуткая – такая, что люди даже кричат как-то по-особому, как-то блеют будто, а не кричат. А потом перестают и блеять, просто впадают в безумие.
Страшнее пытки люди не придумали за всю историю, Ваша честь, а уж на что способно изобретательное человеческое воображение, вам и без меня известно. Дыба ужасна особенно тем, что не дает умереть быстро. Ни тебе открытых ран, ни тебе воспалений – ничего такого, что помогло бы уплыть в бесчувствие, убежать в смерть. Одна только длящаяся боль, достаточно сильная, чтобы свести с ума, но недостаточная для потери сознания. Даже несколько секунд на бауме кажутся вечностью. Подумайте об этом, Ваша честь, и вы поймете, что означал для Йозефа и для меня приговор Штайгера – «пока не сдохнет». И за что?! За что?! Что он такого совершил, этот мальчик, чтобы заслужить столь ужасный конец, столь неимоверные страдания?!
Конечно, Ваша честь, я не адресую этот вопрос Штайгеру. Нет-нет, я не настолько наивен – эсэсовцам никогда не требовалась причина. Я спрашиваю Его, Господа Бога. Даже если предположить, что Йозеф самолично распял Господнего Сына на кресте, ага, самолично, Ваша честь, вот этими своими тонкими руками музыканта и профессорского сынка… даже если поверить в это – все равно тяжесть подобной смерти тысячекратно перевешивала любые крестные муки Господа нашего Иисуса, прости меня, Боже, и помилуй, прости и помилуй, прости и помилуй…
Извините… даже сейчас я схожу с ума, стоит мне вспомнить это штайгеровское «пока не сдохнет», и ухмыляющегося капо, и безумные глаза моего мальчика, распростертого на верстаке… а ведь прошло столько лет, Ваша честь, столько лет! Можете себе представить, что происходило со мною тогда. Я никогда не забуду того ужасного ступора, в который я впал: что-то вроде столбняка, из тех, что сковывает вас в разгар ночного кошмара, когда все ваше существо требует немедленного действия – иначе не спастись, – и в то же время вы не в состоянии пошевелить даже пальцем. Другие заключенные помогли Йозефу слезть с верстака и повели его к водопроводному крану – промыть рот, а я все стоял без движения, как истукан.
Минуты тянулись и летели – мучительно медленно и мучительно быстро, опять же как это бывает только в страшном сне. Штайгер был слишком важной шишкой, чтобы собственноручно волочить на баум проштрафившегося заключенного. Поэтому для исполнения приговора наш капо ждал коммандфюрера… – так, Ваша честь, называется эсэсовец, который поставлен над каждой рабочей командой. Йозеф там и скорчился, где его оставили – на полу, около крана, а остальным приказали вернуться к работе. Видимо, я продолжал стоять без движения, потому что капо врезал мне дубинкой пониже спины. Я автоматически взял в руки напильник и начал вжикать им по металлу. Странно, но именно эта привычная последовательность действий вывела меня из ступора. И что, вы думаете, что я начал делать, Ваша честь?.. Ничего себе! Как вы догадались? Аа-а… да, я действительно частенько поминаю Бога… с того самого случая. Но, в общем, так или иначе, вы правы – я начал молиться.
Я предложил Ему сделку.
«Боже! – сказал я. – Мне ничего не понятно в созданном Тобой мире. Если Ты добр, то зачем создал ад, Штайгера и Дахау? Если же Ты зол, то зачем даровал мне Йозефа и трехмесячное счастье в самой сердцевине этого ада? Как видишь, я не разбираюсь ни в прошлом, которое уже случилось, ни в настоящем, которое сейчас торчит передо мною этой зажатой в тисках деталью, которое стонет в углу окровавленным ртом моего мальчика. Что уже тогда говорить о будущем? Темны для меня Твои планы и намерения, Господи. Может быть, Ты хочешь именно Йозефа, а может быть, наоборот, тебе сойдет любая душа, даже такая бестолковая, как моя. Возьми меня вместо него, Господи! Возьми меня! Я обещаю Тебе все… все… все, что обещал бы, если бы только знал, что Тебе нужно. Вот Тебе карт-бланш, Господи, пустой лист с моей подписью внизу – заполни сам, напиши все, что пожелаешь; клянусь, не пикну даже единым писком, все приму с радостью и послушанием. Только спаси его, Господи, спаси его!»
Так я молился, Ваша честь, примерно такими словами, только намного горячей. А поскольку Бог, по своему обыкновению, молчал как рыба, то мне пришлось озаботиться более приземленным вариантом. Под моим вжикающим напильником быстро формировалась острая полосочка металла – заточка, милосердное орудие йозефового спасения. Я творил ее, продолжая разговаривать с Богом, творил из ребра металлической заготовки, в точности как Бог творил Еву из ребра Адама, чтобы затем снова засунуть ее под ребро, прямо в адамово сердце. Прямо в сердце Йозефу была нацелена и эта заточка – быстрая и безболезненная смерть, счастливый побег от мучителей, прямо в сердце. Я торопился, заговаривая зубы Богу, потому что времени оставалось мало. Надо было обязательно успеть до прихода коммандфюрера. Мой план был прост и эффективен. Йозеф сидел прямо около крана, а значит, никто не заподозрил бы ничего особенного в моем приближении: подходить к воде в слесарке разрешалось. Заточка легко пряталась в рукаве. Всего-то и нужно было, что быстро наклониться и воткнуть ее прямо в сердцевину шестиконечной звезды, прямо в сердце моего Йозефа. Дальнейшее не имело никакого значения, поэтому о дальнейшем я и не думал, полностью предоставив его Богу – большому специалисту по этой части.
Я уже заканчивал заточку, когда дверь отворилась, и вошел коммандфюрер. Сволочь-капо сразу же бросился к нему, вихляя задом. Он бормотал, кланяясь и показывая на Йозефа, а эсэсовец слушал, брезгливо морщился и почему-то отрицательно покачивал головой. Я взялся за тиски, но руки мои тряслись, Ваша честь; вся моя сила уходила на эту тряску, и проклятый винт не поддавался, как будто затянул его не я, а какой-нибудь великан. Мной овладела настоящая паника, я ужасно боялся опоздать. Оглянувшись, я увидел, что коммандфюрер оттолкнул капо и двинулся по направлению к Йозефу. В отчаянии я всем телом налег на тиски, они разжались – и заточка со звоном упала под верстак. Мне показалось, что вся слесарка обернулась на этот звук. Раздумывать было некогда, и я нырнул под верстак, ища заточку, а она, гадина, все не находилась, как будто провалилась сквозь каменные плиты.
«Встать!» – услышал я команду эсэсовца, обращенную к Йозефу, и тут заточка, будто испугавшись этого крика, сама прыгнула мне в руку из какой-то укромной складки. Я сунул ее в рукав и распрямился. Эсэсовец стоял над Йозефом и пинал его сапогом, а тот пытался встать и не мог.
– Встать! – снова заорал коммандфюрер. – Эй вы, кто-нибудь! А ну, поднять это жидовское дерьмо!
Ясно, что никто, кроме меня, не отозвался на этот призыв. Кто же пойдет к эсэсовцу добровольно? Я подбежал, схватил Йозефа под мышки и приподнял. Воткнуть заточку сразу не выходило из-за того, что, пытаясь встать, мой мальчик мельтешил руками, и оттого хорошего, точного удара не получилось бы. А мне ведь важно было закончить дело без боли. Я поднял Йозефа на ноги, уткнулся лицом в его шелковистые волосы, опустил правую руку, и заточка сама скользнула в мою ладонь.
«Не бойся, Йос, – шепнул я ему в самое ухо. – Я спасу тебя, мальчик, сейчас… сейчас…»
– Тебе повезло, дерьмо, – сказал эсэсовец. – Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Твои жиды-родственнички из твоей жидовской Америки выкупили твою тощую жидовскую задницу. Даю тебе три минуты на то, чтобы прибыть в регистрационный блок. Шагом марш!
Ваша честь! Люди часто думают, что Бог если и обращается к человеку, то громовым рыком из грозовой небесной тучи… но это не так, Ваша честь! Он разговаривает самыми разными голосами, уж я-то знаю. Тогда, в Дахау, Он визжал гадким эсэсовским фальцетом, пересыпая каждое свое слово грязными ругательствами, но не было во всем Творении речи божественней, чем та Его речь! Он принял мое предложение! Наша сделка состоялась! Хе-хе…
Вот, собственно, и все, Ваша честь. Бог позволил мне довести Йозефа до регистрационного блока, где я сдал его с рук на руки дежурному вахтману. Он действительно выходил на свободу, мой светлый мальчик! На свободу! Такое случалось в те годы – редко, но случалось. Он выходил с порванным ртом, без зубов – подлец Штайгер выбил ему все передние зубы и еще несколько слева – всего штук десять-двенадцать. Но кто считает такие мелочи? Главное – он остался жив! Жив! И я был счастлив его свободой и жизнью. Так мы и расстались, Ваша честь, навсегда.
Конечно, расставания всегда тяжелы, но с другой стороны – смотря с чем сравнивать. Не думаю, что я смог бы выдержать вид моего мальчика, умирающего на бауме. Я уже говорил, Ваша честь, что наша любовь бескорыстна и умеет радоваться радостью любимых больше, чем своей собственной. Чудесное освобождение Йозефа было как раз таким случаем, в чистом виде, гвоздики с колечками… Это был самый большой подарок, который я мог бы получить тогда, самый большой. Не знаю, поверите ли вы мне, но своему освобождению я бы радовался меньше. Не верите? Ну и ладно, неважно… Я? А это уже совсем неважно, Ваша честь. Мы ведь заключили с Ним сделку. Баш на баш. Он честно выполнил свою часть, и теперь мне оставалось просто спокойно ждать, когда Ему вздумается, наконец, прийти за моей. Это случилось не сразу. Хотя кто знает, как там у Него течет время? Наш день вполне может быть для Него годом, а столетие – секундой. Я же, со своей стороны, не возражал… хе-хе… куда тут торопиться?
Что?.. Ну, только если вы особо настаиваете, потому что вообще-то моя смерть к делу Йозефа не очень-то и относится, не так ли? Да нет, какие там секреты, Ваша честь? Секреты?.. У меня – от вас?..
Наш лагерь был окружен деревьями, замечательно красивыми, здоровыми и рослыми растениями с множеством листьев. Последнее обстоятельство весьма существенно, Ваша честь. Дело в том, что осенью листья имеют обыкновение осыпаться, такая вот неприятность, гвоздики с колечками… Почему неприятность? Да потому, что комендант ненавидел мусор в любом его проявлении. За чистотой территории следила специальная команда, и боже упаси, если какой-нибудь крохотный желтый листок оставался неподобранным!
Осенью сорок третьего в слесарку не завезли сырье, и нас от нечего делать направили на уборку. Все обрадовались, потому что листопад уже прошел, и деревья стояли голыми, так что работы считай и не было никакой. А погода была удивительная. Знаете, Ваша честь, эти осенние баварские утренники, с прозрачным небом, полным чистого прохладного воздуха, и мокрыми полями за изгородью? В общем, дышалось поразительно хорошо.
Я быстро убрал свой участок, подмел дорожку, обнаружив при этом замечательно длинный окурок, затем несколько раз прошелся туда-сюда, чтобы окончательно удостовериться, что все в полном порядке, и присел на корточки перекурить. Ах, какая все-таки стояла тогда погода – всюду, и в природе, и на сердце! Я курил и думал о Йозефе, представляя, как он гуляет сейчас по Манхэттену, или сидит в каком-нибудь бродвейском баре, или так же, как я, смотрит на деревья, но не здесь, а в своем Сентрал-парке. Мне было покойно и хорошо.
Господь дал мне докурить окурок до самого конца и только тогда пнул меня в спину эсэсовским сапогом. От неожиданности я ткнулся лицом в землю. Надо мною стоял наш коммандфюрер.
– Куришь, вонючка? – прошипел он в гневе. – Куришь? А это что там такое, раздолбанная задница? А? Это что такое?
Я посмотрел в направлении его указующего перста. На идеально чистой дорожке лежал лист, обычный осенний лист. Я сразу понял, что это такое, Ваша честь. Ведь на самом деле, прежде чем присесть на перекур, я тщательнейшим образом осмотрел все деревья на своем участке. Готов поклясться чем угодно – они были абсолютно голыми, ни единого листочка. Ни единого, Ваша честь!