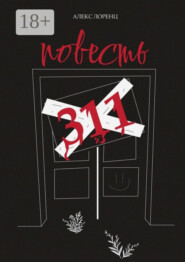По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Толстой. Повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ой… ой… – замялась женщина. – Глупая я баба… Глупую жизнь прожила, вот до сих пор и мелю одну глупость, ничего путного…
– Да ну, что вы! – смутился Сергеев. – Я вовсе не то хотел сказать. Просто, наверное, брату в его нынешнем, так сказать, пребывании публикация книги о Толстом не так важна, как была при жизни земной, – это я имел в виду.
– Сергей Сергеич его любил, Толстого-то…
– Знаю. Знаю. Но кому в наше время такая книга была бы нужна? Сами подумайте. В наши дни даже чтобы повысить себе звание в научной среде – и то приходится за свой счёт печатать брошюры, а потом, извините за выражение, втюхивать студентам, чтоб эта макулатура не пылилась дома на антресоли годами. А книга о графе Толстом из Красного Рога? Разве хоть одно издательство возьмётся на свой страх и риск такое печатать, будь это хоть тысячу раз полезно обществу?
– Ну, я не… – попыталась было поддержать разговор свечница. Но Сергеев её словно бы не слышал.
– Наоборот – с большой охотой напечатают то, что обществу вредно. Вся эта жвачка из проходных, плохо написанных детективов, пошлой, штампованной фантастики выходит миллионами тиражей, а какая-нибудь научная монография – в смехотворных пяти сотнях экземпляров. Каково, а?! Катимся на дно. Со свистом. И брат мой это понимал лучше нас с вами. Потому и не кончил книгу. Захотел бы при жизни – думаете, его хоть что-то смогло бы остановить? Вот я уверен, что нет, не смогло бы. Он её, может быть, для себя писал, ту книгу, а не на потребу, простите… охлосу! Может, публикация, наоборот, стала бы ему жестоким оскорблением, пощёчиной. Ему, его памяти. Он и без того много хорошего сделал. Очень много. Больше, чем кажется.
Собеседница плотно сжала губы и с виноватым видом уставилась на склеп.
– Да и взять хотя бы вот этого вот Толстого, Алексея Константиновича, – не унимался Никифор. – Казалось бы – наша гордость. Ходим, щёки надуваем, хотя сами-то мы тут при чём? Разве наша заслуга, что обитаем рядом с его усадьбой, где он даже не родился, а просто пожил с десяток лет? Да вот уж вряд ли! Но нет – грудь колесом: такой, мол, поэт был замечательный, наше всё, без пяти минут Пушкин. Школьников в усадьбу со всей области возят, хотя от настоящего толстовского гнезда там и кирпичика не осталось. Любим, любим Алексея Константиновича, как отца родного! Души не чаем! А где ж тогда миллионные тиражи его книг?! Что при СССР напечатали, то и имеем. Сущие крохи! А в наши дни не то что миллионных тиражей, а вообще никаких нету! Ну, разве что та проза, которая у него про вампиров, – вот это публике интере-е-е-е-е-есно, да-а-а-а-а-а! Острые сюжеты подавай. А где мысль чуть поглубже – всё, уже мозгов, простите меня за резкость, не хватает…
Сергеев поймал себя на том, что вот-вот пустится в откровенное юродство. Смолк, по примеру свечницы уставился на склеп.
Повисло гнетущее молчание. Женщина переминалась с ноги на ногу – она Толстого чтила, как и большинство здесь, но за всю свою жизнь прочла лишь пару-тройку его стихотворений и потому приняла обличительную тираду Сергеева на свой счёт.
Трудно сказать, в какую степь понёсся бы дальше тот несуразный разговор, если б не голос от калитки:
– Простите.
Скрипнули петли. Никифор со свечницей обернулись. К ним поднимался хорошо одетый молодой человек – худощавый, с модной стрижкой и в очках-хамелеонах. Чёрная сумка через плечо. Явно с дороги. Сунул руку в карман, извлёк и протянул визитку.
– Добрый день. Я журналист из Москвы.
Сергеев карточку машинально принял, сощурился, прочёл имя владельца и название периодического издания, но ни слова не запомнил – передал обратно, не предложив свечнице тоже ознакомиться.
– Пишу большой исследовательский материал о влиянии мистического фольклора на творчество Але… – У журналиста глаза полезли на лоб. – Это что… его МОГИЛА?!
– Склеп, – поправил Никифор.
– Граф с супругой тут похоронены, – добавила служительница.
– О-чу-меть.
– Вы, молодой человек, пожалуйста, выражайтесь как-нибудь покультурнее, – мягко осадила его женщина. – У церкви всё-таки находитесь.
– Пардон, – нехотя извинился гость. – А фотографировать можно?
– Пожалуйста, фотографируйте. Нельзя только в храме, а тут не запрещено.
Журналист снял с плеча сумку, поставил на землю, стал дрожащими руками расчехлять фотоаппарат.
– Вот тебе и «большой исследовательский материал», – буркнул Никифор.
– Фольклор собираете? – спросила свечница.
– Да. Поверья, легенды, прочее подобное.
– Ищете местных, которые вам что-нибудь расскажут? Иначе, наверное, не потащились бы в такую даль.
– Вроде того. – Парень занимался своим делом – фотографировал, не глядя на собеседницу.
– Так давайте я вас отведу туда, где вам много такого расскажут. С пустыми руками в свою Москву точно не уедете.
– Вот это было бы чудесно! – обрадовался молодой человек. – Только несколько снимков сделаю, пара минут.
Вдалеке, со стороны посёлка у железнодорожной станции (километров восемь от села, называется тоже Красный Рог), послышалось нарастающее тарахтение мотора. Вскоре у церковной калитки показались старые «жигули».
VI
Распрощавшись со служительницей и дежурно пожелав успехов московскому журналисту, Никифор уселся на переднее пассажирское сиденье пропахшего маслом и дымом дешёвых папирос «жигулёнка». Кузьма совсем не изменился за пару лет, что они не видались. Пунцовое лицо гипертоника, слезящиеся глаза с мешками, седая борода, грубые мозолистые ручищи, засаленная рубаха, серое тканевое кепи.
Кузьме Петровичу, как и двум его троюродным братьям, было под семьдесят. Как и Никифор, он пока ещё не вышел на пенсию – служил путевым обходчиком на станции Красный Рог. Сыновья выросли и осели там же, в посёлке при станции, у каждого своё хозяйство, обзавелись жёнами да детьми. Зато повзрослевшие внуки не слишком-то ценили прелести малой родины и потихоньку, один за другим, разъезжались кто куда.
Братья Сергеевы ехали на кладбище исчезнувшей деревни Емельяновки – именно там Сергей Сергеевич просил его похоронить, рядом с матерью, бабкой и дедом, – и не раз о том напоминал. Мать с отцом схоронили порознь, каждого на погосте своего родного селения. Она родилась в Емельяновке, вышла замуж за красавца из посёлка Сергеевского, переехала жить туда. Её родители дожили оба почти до ста лет, пережили всех своих детей. Всю жизнь провели в родной Емельяновке. Сергей Сергеев исправно навещал их – и в детстве с родными братьями да сёстрами ходил к бабке с дедом в гости пешком, и потом, будучи взрослым, часто приезжал. Добрые были люди. Хорошие, крепкие, основательные…
Кузьма с Никифором в основном молчали. Слушали гул мотора, лишь изредка перебрасывались парой-другой коротких фраз. Ехали в Емельяновку по просёлкам. За Красным Рогом – живая, кипящая хозяйственными работами деревня Тарасики: она не то что не вымерла, а некоторые местные даже ухитрились в нелёгкое время поставить да обустроить новенькие двухэтажные кирпичные дома. Потом – Красномайская. Чем дальше вглубь, тем хуже дела. В противоположность соседним Тарасикам, Красномайская вымирала – это было сразу заметно по брошенным хатам, что тянулись сплошняком, с заколоченными ставнями и ежом репейника вдоль фасадов. Ещё дальше – Москали с большим, нарядным кладбищем да парой-тройкой захудалых домишек.
Никифор Ильич помнил Москали как крупную, протяжённую деревню, развесёлую да разудалую. А теперь едва узнавал то, что видел. Двухкилометровая полоса густой дурнины, гнилые остатки штакетника торчат, как кривые старушечьи зубы; кое-где горелые чёрные развалины да груды досок щерятся ржавыми гвоздями.
– Давно тут… так? – спросил Никифор, пока они ехали вдоль Москалей.
– Давненько уж, – неопределённо пожевал губами Кузьма. – Я сам-то в этих краях редко бываю, чего мне тут делать. Говорят, пожары бушевали, много домов погорело. На какие шиши людя?м сызнова отстраиваться? Вот и подались кто куда. А иные и сгорели заживо.
За Москалями Кузьма круто дал влево, на ухабистую, едва заметную дорогу. Место, где раньше стояла деревня Емельяновка, хорошо просматривалось справа. Пара скрюченных яблонь – вот всё, что от неё осталось. Деревня возникла в конце семнадцатого века, при Петре. Пережила Романовых, три революции, две войны, сталинский террор… Померла тихо-мирно, своей смертью, в восемьдесят шестом, десять лет назад, вместе со своими последними престарелыми обитателями.
Только кладбище осталось. К нему и вела ухабистая дорога через луг от Москалей. Перед мысленным взором Никифора Ильича проносились картины молодости – все эти родные свои места они с братьями исходили пешком вдоль и поперёк. Были тут и колхозы, и машинно-тракторные станции, и водокачки, и поля кругом распаханные, и парни с девками гульбанили. Жили так-то дружно, но случались и драки – деревня на деревню. Молотилово немыслимое: синяки, кровь, переломы. Но потом мирились, братались, вновь становились как родные.
– Помнишь, как тут в наши лучшие годы жизнь-то через край кипела, а?! – деланно-бодро сказал Никифор.
– Кипела-кипела да и выкипела вся, – мрачно отозвался Кузьма, дымя вонючей папиросой.
– Как дела у вас на станции? – сменил тему Никифор.
– Да как… так-сяк. Держимся. Железная дорога кормит. Да и лесовозы ездят. Даже сельсовет покамест не закрыли.
– Ты ещё в сельсовете?
– Да не-е-е-е, год как. Мне эти общественные начала уж давно поперёк горла встряли. Никому ничего не надо, каждый сам за себя стал… А мне оно для какой надобности? Да и староват я уже, сдаю потихоньку.
– Как дети? Как внуки?
– Своим чередом. Пашка с Валеркой под отцовским крылышком, так сказать, под боком. – Тут на лице Кузьмы Петровича заиграла довольная улыбка. Скулы зарделись, глаза превратились в узкие щёлки. Он гордился тем, что его отпрыски остались на малой родине и своих детей тоже вырастили здесь, хоть внуки и подались всё равно в Брянск.
– А твои как? – не без лёгкого злорадства спросил Кузьма. Он считал, что Никифор совершил страшную ошибку, когда в молодости перебрался в областной город работать и жить. Раз в сильном подпитии при встрече в сердцах назвал брата «общежитской крысой» – тогда молодому преподавателю ещё не выделили квартиру, бездетным холостякам в городе не положено. Чуть было до драки не дошло. С годами Кузьма стал вести себя сдержаннее, но мнения своего не изменил и видом своим всегда показывал, что думает о жизненном пути Никифора.
– Да ну, что вы! – смутился Сергеев. – Я вовсе не то хотел сказать. Просто, наверное, брату в его нынешнем, так сказать, пребывании публикация книги о Толстом не так важна, как была при жизни земной, – это я имел в виду.
– Сергей Сергеич его любил, Толстого-то…
– Знаю. Знаю. Но кому в наше время такая книга была бы нужна? Сами подумайте. В наши дни даже чтобы повысить себе звание в научной среде – и то приходится за свой счёт печатать брошюры, а потом, извините за выражение, втюхивать студентам, чтоб эта макулатура не пылилась дома на антресоли годами. А книга о графе Толстом из Красного Рога? Разве хоть одно издательство возьмётся на свой страх и риск такое печатать, будь это хоть тысячу раз полезно обществу?
– Ну, я не… – попыталась было поддержать разговор свечница. Но Сергеев её словно бы не слышал.
– Наоборот – с большой охотой напечатают то, что обществу вредно. Вся эта жвачка из проходных, плохо написанных детективов, пошлой, штампованной фантастики выходит миллионами тиражей, а какая-нибудь научная монография – в смехотворных пяти сотнях экземпляров. Каково, а?! Катимся на дно. Со свистом. И брат мой это понимал лучше нас с вами. Потому и не кончил книгу. Захотел бы при жизни – думаете, его хоть что-то смогло бы остановить? Вот я уверен, что нет, не смогло бы. Он её, может быть, для себя писал, ту книгу, а не на потребу, простите… охлосу! Может, публикация, наоборот, стала бы ему жестоким оскорблением, пощёчиной. Ему, его памяти. Он и без того много хорошего сделал. Очень много. Больше, чем кажется.
Собеседница плотно сжала губы и с виноватым видом уставилась на склеп.
– Да и взять хотя бы вот этого вот Толстого, Алексея Константиновича, – не унимался Никифор. – Казалось бы – наша гордость. Ходим, щёки надуваем, хотя сами-то мы тут при чём? Разве наша заслуга, что обитаем рядом с его усадьбой, где он даже не родился, а просто пожил с десяток лет? Да вот уж вряд ли! Но нет – грудь колесом: такой, мол, поэт был замечательный, наше всё, без пяти минут Пушкин. Школьников в усадьбу со всей области возят, хотя от настоящего толстовского гнезда там и кирпичика не осталось. Любим, любим Алексея Константиновича, как отца родного! Души не чаем! А где ж тогда миллионные тиражи его книг?! Что при СССР напечатали, то и имеем. Сущие крохи! А в наши дни не то что миллионных тиражей, а вообще никаких нету! Ну, разве что та проза, которая у него про вампиров, – вот это публике интере-е-е-е-е-есно, да-а-а-а-а-а! Острые сюжеты подавай. А где мысль чуть поглубже – всё, уже мозгов, простите меня за резкость, не хватает…
Сергеев поймал себя на том, что вот-вот пустится в откровенное юродство. Смолк, по примеру свечницы уставился на склеп.
Повисло гнетущее молчание. Женщина переминалась с ноги на ногу – она Толстого чтила, как и большинство здесь, но за всю свою жизнь прочла лишь пару-тройку его стихотворений и потому приняла обличительную тираду Сергеева на свой счёт.
Трудно сказать, в какую степь понёсся бы дальше тот несуразный разговор, если б не голос от калитки:
– Простите.
Скрипнули петли. Никифор со свечницей обернулись. К ним поднимался хорошо одетый молодой человек – худощавый, с модной стрижкой и в очках-хамелеонах. Чёрная сумка через плечо. Явно с дороги. Сунул руку в карман, извлёк и протянул визитку.
– Добрый день. Я журналист из Москвы.
Сергеев карточку машинально принял, сощурился, прочёл имя владельца и название периодического издания, но ни слова не запомнил – передал обратно, не предложив свечнице тоже ознакомиться.
– Пишу большой исследовательский материал о влиянии мистического фольклора на творчество Але… – У журналиста глаза полезли на лоб. – Это что… его МОГИЛА?!
– Склеп, – поправил Никифор.
– Граф с супругой тут похоронены, – добавила служительница.
– О-чу-меть.
– Вы, молодой человек, пожалуйста, выражайтесь как-нибудь покультурнее, – мягко осадила его женщина. – У церкви всё-таки находитесь.
– Пардон, – нехотя извинился гость. – А фотографировать можно?
– Пожалуйста, фотографируйте. Нельзя только в храме, а тут не запрещено.
Журналист снял с плеча сумку, поставил на землю, стал дрожащими руками расчехлять фотоаппарат.
– Вот тебе и «большой исследовательский материал», – буркнул Никифор.
– Фольклор собираете? – спросила свечница.
– Да. Поверья, легенды, прочее подобное.
– Ищете местных, которые вам что-нибудь расскажут? Иначе, наверное, не потащились бы в такую даль.
– Вроде того. – Парень занимался своим делом – фотографировал, не глядя на собеседницу.
– Так давайте я вас отведу туда, где вам много такого расскажут. С пустыми руками в свою Москву точно не уедете.
– Вот это было бы чудесно! – обрадовался молодой человек. – Только несколько снимков сделаю, пара минут.
Вдалеке, со стороны посёлка у железнодорожной станции (километров восемь от села, называется тоже Красный Рог), послышалось нарастающее тарахтение мотора. Вскоре у церковной калитки показались старые «жигули».
VI
Распрощавшись со служительницей и дежурно пожелав успехов московскому журналисту, Никифор уселся на переднее пассажирское сиденье пропахшего маслом и дымом дешёвых папирос «жигулёнка». Кузьма совсем не изменился за пару лет, что они не видались. Пунцовое лицо гипертоника, слезящиеся глаза с мешками, седая борода, грубые мозолистые ручищи, засаленная рубаха, серое тканевое кепи.
Кузьме Петровичу, как и двум его троюродным братьям, было под семьдесят. Как и Никифор, он пока ещё не вышел на пенсию – служил путевым обходчиком на станции Красный Рог. Сыновья выросли и осели там же, в посёлке при станции, у каждого своё хозяйство, обзавелись жёнами да детьми. Зато повзрослевшие внуки не слишком-то ценили прелести малой родины и потихоньку, один за другим, разъезжались кто куда.
Братья Сергеевы ехали на кладбище исчезнувшей деревни Емельяновки – именно там Сергей Сергеевич просил его похоронить, рядом с матерью, бабкой и дедом, – и не раз о том напоминал. Мать с отцом схоронили порознь, каждого на погосте своего родного селения. Она родилась в Емельяновке, вышла замуж за красавца из посёлка Сергеевского, переехала жить туда. Её родители дожили оба почти до ста лет, пережили всех своих детей. Всю жизнь провели в родной Емельяновке. Сергей Сергеев исправно навещал их – и в детстве с родными братьями да сёстрами ходил к бабке с дедом в гости пешком, и потом, будучи взрослым, часто приезжал. Добрые были люди. Хорошие, крепкие, основательные…
Кузьма с Никифором в основном молчали. Слушали гул мотора, лишь изредка перебрасывались парой-другой коротких фраз. Ехали в Емельяновку по просёлкам. За Красным Рогом – живая, кипящая хозяйственными работами деревня Тарасики: она не то что не вымерла, а некоторые местные даже ухитрились в нелёгкое время поставить да обустроить новенькие двухэтажные кирпичные дома. Потом – Красномайская. Чем дальше вглубь, тем хуже дела. В противоположность соседним Тарасикам, Красномайская вымирала – это было сразу заметно по брошенным хатам, что тянулись сплошняком, с заколоченными ставнями и ежом репейника вдоль фасадов. Ещё дальше – Москали с большим, нарядным кладбищем да парой-тройкой захудалых домишек.
Никифор Ильич помнил Москали как крупную, протяжённую деревню, развесёлую да разудалую. А теперь едва узнавал то, что видел. Двухкилометровая полоса густой дурнины, гнилые остатки штакетника торчат, как кривые старушечьи зубы; кое-где горелые чёрные развалины да груды досок щерятся ржавыми гвоздями.
– Давно тут… так? – спросил Никифор, пока они ехали вдоль Москалей.
– Давненько уж, – неопределённо пожевал губами Кузьма. – Я сам-то в этих краях редко бываю, чего мне тут делать. Говорят, пожары бушевали, много домов погорело. На какие шиши людя?м сызнова отстраиваться? Вот и подались кто куда. А иные и сгорели заживо.
За Москалями Кузьма круто дал влево, на ухабистую, едва заметную дорогу. Место, где раньше стояла деревня Емельяновка, хорошо просматривалось справа. Пара скрюченных яблонь – вот всё, что от неё осталось. Деревня возникла в конце семнадцатого века, при Петре. Пережила Романовых, три революции, две войны, сталинский террор… Померла тихо-мирно, своей смертью, в восемьдесят шестом, десять лет назад, вместе со своими последними престарелыми обитателями.
Только кладбище осталось. К нему и вела ухабистая дорога через луг от Москалей. Перед мысленным взором Никифора Ильича проносились картины молодости – все эти родные свои места они с братьями исходили пешком вдоль и поперёк. Были тут и колхозы, и машинно-тракторные станции, и водокачки, и поля кругом распаханные, и парни с девками гульбанили. Жили так-то дружно, но случались и драки – деревня на деревню. Молотилово немыслимое: синяки, кровь, переломы. Но потом мирились, братались, вновь становились как родные.
– Помнишь, как тут в наши лучшие годы жизнь-то через край кипела, а?! – деланно-бодро сказал Никифор.
– Кипела-кипела да и выкипела вся, – мрачно отозвался Кузьма, дымя вонючей папиросой.
– Как дела у вас на станции? – сменил тему Никифор.
– Да как… так-сяк. Держимся. Железная дорога кормит. Да и лесовозы ездят. Даже сельсовет покамест не закрыли.
– Ты ещё в сельсовете?
– Да не-е-е-е, год как. Мне эти общественные начала уж давно поперёк горла встряли. Никому ничего не надо, каждый сам за себя стал… А мне оно для какой надобности? Да и староват я уже, сдаю потихоньку.
– Как дети? Как внуки?
– Своим чередом. Пашка с Валеркой под отцовским крылышком, так сказать, под боком. – Тут на лице Кузьмы Петровича заиграла довольная улыбка. Скулы зарделись, глаза превратились в узкие щёлки. Он гордился тем, что его отпрыски остались на малой родине и своих детей тоже вырастили здесь, хоть внуки и подались всё равно в Брянск.
– А твои как? – не без лёгкого злорадства спросил Кузьма. Он считал, что Никифор совершил страшную ошибку, когда в молодости перебрался в областной город работать и жить. Раз в сильном подпитии при встрече в сердцах назвал брата «общежитской крысой» – тогда молодому преподавателю ещё не выделили квартиру, бездетным холостякам в городе не положено. Чуть было до драки не дошло. С годами Кузьма стал вести себя сдержаннее, но мнения своего не изменил и видом своим всегда показывал, что думает о жизненном пути Никифора.