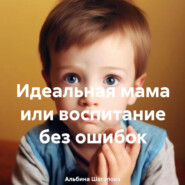По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Для тебя моя кровь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Настанет очередной день,умывание ледяной водой, тяжёлая, высасывающая силы, работа, постоянное чувство голода, от которого горит всё нутро и ощущается кисловатый привкус во рту, усталость, окрики охраны. Нужно уснуть, чтобы грядущий день не стал для меня пыткой, чтобы не мучаться от головной боли, не считать часы до отбоя. Но чем больше я об этом думала, тем меньше хотелось спать. В голову лезли ненужные мысли, воспоминания той, вольной жизни, когда не было ни стен камеры, цвета горохового супа, ни железных скрипучих коек, ни смердящей нянюшки за грязной цветастой шторой, ни лязгающей металлической двери, ни стойкого густого тюремного духа, который состоит из множества запахов, нечистот и немытых тел, гноящихся ран и тюремной еды, страха и отчаяния.
Несмотря на нестерпимую духоту в камере, мне было зябко. Я, свернувшись в клубок, обхватила руками колени, стараясь согреть их дыханием, кожу саднило, а в горле прокручивалось колесо, утыканное острыми шипами. Я заболела. Немудрено, работа на холоде, мытьё и стирка ледяной водой и скудное питание здоровья прибавить ни как не могут. И странно, почему болезнь настигла меня лишь сейчас, а не раньше, два месяца назад, например.
Потребовать что– ли к себе доктора, пусть выпишет мне освобождение от работ? Ну, какой из меня работник в таком состоянии? Но разве наша барыня Ника позволит кому– то отлынивать? Её камера должна быть первой во всём, выполнять и перевыполнять планы по добыче амгры, иметь только отличные оценки за чистоту помещения, раньше всех приходить на построение. А тут– больничный! Болеть нельзя, не в коем случаи, иначе окажешься среди навозниц, и спать будешь не на общей территории , а рядом с нянюшкой.
В окно стучался ветер, остервенело, нервно. Холодный, неприветливый, суровый край, который, словно специально созданный властителем вселенной, для наказания грешников. Аналог ада в мире живых, филиал. Вот, к примеру, гражданка Лукашина или гражданин Земенков, чем не черти? А Ника? К огромному моему счастью, она обращала на меня столько же внимания, сколько на потолок. Вносила мою фамилию в список распределения работ, график дежурства по камере и всё на этом. Мои товарки Танька и Надька, со знанием дела, утверждали, что мне невероятно повезло. Причин им не верить у меня не было. Как жестоко барыня расправлялась с провинившимися и потешалась, просто так, от скуки, над навозницами, я и сама видела.
– Эй, навозницы! – кричала она по утрам. – Нянюшку мне мухой притащили.
И какая-нибудь из женщин, измождённая от тяжкого труда, сгорбленная, в лохмотьях, пятнистая, от множества кровоподтёков, желая услужить, подбегает к ложу Ники, на трясущихся от слабости и страха, ногах, неся жестяное ведро.
Ника, крутобёдрая, пышнотелая, лениво взгромождается задом на него, а свита, сонно протирая глаза, замирает, предвкушая зрелище.
Освободив кишечник и мочевой пузырь, барыня подаёт знак навознице, которая, наклоняется к Никеному заду, чтобы его вытереть.
И здесь уже замирает вся камера, ибо дальнейшие действия барыни будут свидетельствовать о её настроении. Если просто выпустит газы в лицо навозницы, то можно расслабиться, так как барыня ныне пребывает в хорошем расположении духа. Ну а коли потребует бумажку и начнёт ею возить по лицу, до смерти напуганной, женщины, тогда– берегись, ведь барыня в гневе, и молись властителю вселенной, чтобы гнев этот тебя не коснулся.
Подумать только, я – золотая медалистка, одна из лучших студентов на факультете, окончившая институт с красным дипломом, учитель истории, примерная внучка, тихоня, нахожусь здесь, в одной камере с уголовницами, воровками, как Танька, убийцами, как Надька. А может быть наказание моё справедливо? Я не убивала, не брала чужого, не требовала взяток, но я предала того, кто меня любил, кто был готов отказаться от карьеры, родства с министром, от дополнительной магической силы. Мне же всё это показалось недостаточным, я возжелала изменить его, заставить отказаться от себя, стать таким, каким я хотела его видеть. А кто мне эта Алёна, ради которой я наговорила любимому мужчине столько гадостей, влезла в чужую войну, в чужую месть. А если бы выслушала Вилмара, попробовала его понять , переступив через собственные понятия о справедливости и милосердии, подошла, дала залечить свою рану, благосклонно приняла его извинения виде хризантемы, где бы я сейчас была? В саду под пологом южного звёздного неба? На берегу моря? Не плакать! А уж тем более не выть! Хотя так этого хочется, взвыть в голос, подняв вверх голову, словно бродячая псина.
Хрупкий цветок, с тонким, едва уловимым ароматом, в каплях росы отражается свет солнца, розовые тонкие прожилки на белых лепестках, клочок белой бумаги, прикреплённый к стеблю. Тогда, в пылу своей ярости, я не заметила его, а вот сейчас вспомнилось. Подсознание немилосердно выдало мне этот, уже не нужный факт. Аккуратные лиловые буквы, выведенные рукой Вилмара:»Прости меня, родная».
Неумолимо приближалось утро, как всегда, холодное, сизое, безрадостное. Квадрат окна синел, а я так и не выспалась, лишь разболелась голова, да озноб усилился.
– Подъём! – раздаётся голос Лукашиной.
В камере становится светло. Скрипят кровати, женщины, неопрятные, с обветренными лицами, спутанными волосами, загрубевшей кожей на руках поднимаются, натягивают на себя робы. Ненавижу эту робу, грубая, царапающая кожу, противного коричневого цвета. Рубаха на два размера больше, так, что приходится подворачивать рукава, широкие штаны длинные, и сколько их не подгибай, они так и норовят подмести пол, а, хуже, угодить в лужу, каковых не мало в тюремной умывальне.
Нас строем ведут по коридору, узкому, с мрачными стенами, на которых облупилась краска, мимо железных дверей, под гудящими прямоугольниками казенных ламп, источающих мертвенный голубовато– белый свет. Лукашина то и дело рявкает, требуя пошевеливаться, хотя мы идём довольно быстро. Впереди шествует барыня со свитой, потом мы, а позади ковыляют навозницы. .
Тюремная умывальня представляет собой длинную комнату, в которой в два ряда располагаются раковины, железные, пожелтевшие от старости. Словно гуси, склонившие шеи, плюются ледяной водой проржавевшие краны. От холода сводит зубы, немеют пальцы. Но умываться надо, просто необходимо, чтобы не опуститься, не сгнить заживо. Среди моих сокамерниц были и те, что пренебрегали личной гигиеной, превратившись в ходячие мешки тухлого мяса.
Стягиваю с себя рубаху, грубо пошитый казенный бюстгальтер, намыливаю верхнюю часть тела, мысленно готовясь к обжигающему холоду. Синий мрак умывальни, грохот воды по металлу раковин, возня и споры сокамерниц, рык Лукашиной. А ведь в моей жизни была белоснежная ванна с душистой пеной, мягкое полотенце, апельсиновый сок и солнечный свет за окном. Вот только было ли? Может мне всё это привиделось приснилось в одну из ночей? В этом неприветливом краю нет ни солнца, ни зелени. Он лишён красок, лишён смены времён года. На этом уголке планеты свирепствуют ветра и морозы, небо покрыто безжизненно– серыми облаками, плотными, тяжёлыми. Сизая трава и такая же сизая листва на тощих деревьях покрыта инеем. Земля холодная, неплодородная, высушенная ветрами. Скованная морозом. А зимой, всё покроется мелкой сизой крошкой, холодной, как снег, но сухой.
Тело моё дрожит, покрывается противными мурашками. Я набираю воду в ладони и брызгаю ею на себя. Пора прибегнуть к испытанному, но такому не понятному, странному способу согревания воды. Если кому расскажу, меня посчитают сумасшедшей. Вспоминаю Вилмара, наши утренние купания в море, солнце, дробящееся в волнах, руки вампира на моих плечах, прикосновение мягких губ, такое нежное, но в то же время, требовательное.
От этих мыслей, холод отступает, а ледяная вода из под крана становится теплее. Женщины взвизгивают, ёжатся, матерятся, не обращая внимания на окрики конвоиров. А мне тепло, и я с наслаждением стираю с себя грязь и пот вчерашнего дня, смываю с лица остатки бессонной ночи.
Нас вновь приводят в камеру. Все усаживаются на свои кровати в ожидании завтрака.
– Может, больничный попросишь? – Танька смотрит на меня с жалостью. – Выглядишь ты ужасно, краше в гроб кладут.
Это между собой мы Таньки, Надьки и Ленки. А для охраны, начальника тюрьмы, да и наверное всей нашей страны мы просто номера. Да– да, вот эти самые номера, что вышиты белыми нитками на грубом драпе наших рубах.
– Возьму больничный, и гроб мне обеспечен, – отвечаю я простуженным голосом. Больно говорить, больно дышать, больно глотать.
Танька согласно вздыхает. На её бледном узком лице застыла усталость, Красные обмороженные пальцы с обломанными ногтями переплетают мышиного цвета косицу.
– Тебе бы денька два отлежаться, – шепчет Надька. – К тому же. Завтра ты дежуришь по камере, не забыла?
Забыла. Так уж устроен человек, о плохом, неприятном, старается не думать, а лучше и вовсе стереть из памяти. Предыдущее моё дежурство прошло гладко, но что будет на этот раз?
– В таком состоянии тебе дежурить никак нельзя, – Танька задумчиво трёт переносицу. Хорошая она девчонка, отзывчивая, добрая. Именно она поддержала меня, когда я оказалась здесь , подсказывала, познакомила с соседками по камере, объяснила что к чему. Даже не верится, что такой человек мог резать сумки в транспорте, вытаскивая из них кошельки.– Ника, если двойку получишь, шкуру с тебя сдерёт.
– Может, не получит, – Надька подпёрла рукой пухлую щёку. – Главное, не думать об этом. Вот всегда так, когда чего– то боишься, то и сбывается. Вот я всегда боялась, что Ивашка мой припрётся пьянющий, начнёт кулаками махать, а я его убью. Вот возьму табуретку, и хрясь, по безмозглой башке! Так оно и вышло.
– Ох, девки, всё равно страшно. Я же помню, как Ника Машку– корову заморозила. Получила она двойку. Ника с начала ничего не сказала ей, дождалась когда смена Земенкова настанет. А он – садюга ещё тот. Ему Никены выверты, что бальзам на душу. И вот, подаёт она Земенкову список распределения работ, свиту свою на кухню и в швейный цех отправила, нас на промывку, навозниц на добычу, а в их компанию и Машку вписала. Выдали навозницам спец одежду, а Машке ничего не дали, велели в болото в одной робе лезть, да ещё и босяком. Машка рыдала, в ногах у Земенкова и Ники валялась, даже себя охраннику предложила. Но вот только Земенкова больше чужие муки возбуждают, нежели наша сомнительная краса. Короче, обморожение обеих конечностей и гангрена. Машка гнила живьём. Вся камера гнилым мясом провоняла. Машка даже до нянюшки дойти не могла, под себя гадила. В её теле черви завелись, расползлись по камере. Мы все Нику умоляли, чтобы она доктора вызвала. Каждый по очереди ей зад вытирал, пайку ей свою отдавали. Наконец врач пришёл, такой же смердючий, что и Машка. Халат грязный, помятый, глаза заплыли, язык заплетается. Дохнул на нас перегаром и вынес приговор, мол Машка наша не жилец более. Так и вышло. Ночью она померла.
От рассказа Таньки меня затошнило, накатила слабость. Лечь бы сейчас, закрыть глаза, отключиться от всего, унестись далеко от этих давящих стен, обезумевших от тяжёлой работы, замкнутого пространства и отсутствия солнечного света женщин. Где же моя светло– голубая комната, окна которой выходят в благоухающий разнотравьем сад, где он, свежий ветер, где кричащие птицы? Во что же превратилась моя жизнь? Кто виноват? Никто не виноват, кроме меня самой. Я всё разрушила, растоптала.
Окошечко в двери со скрежетом открылось, и все мы встали в очередь, чтобы получить порцию жидкого, безвкусного, едва тёплого варева и краюху ржаного, почему– то, неизменно сырого, хлеба.
Стук ложек о железные миски, чавканье. Гадкое варево не лезет в горло, но я проталкиваю его в себя, ведь до обеда ещё предстоит дожить.
Руки мёрзнут даже в перчатках. Мы сидим вокруг огромного корыта, до краёв наполненного сизыми шариками, в которых заключено ядрышко студенистое, упругое. Эти ядра необходимо извлечь из сизой скорлупы и отмыть, так, чтобы коричневое стало прозрачным. Шуршит над головой синюшная листва, скрипит под ботинками мёрзлая трава. Скорлупа жёсткая, гладкая. Непослушные пальцы с трудом хватают шарик и сжимают его, чтобы раздавить. Но покрытие не поддаётся, лишь выскальзывает и падает на траву. Дышать всё тяжелее, в голове мутится от холода и осознания того, что работе нет ни конца ни края. Я уже не чувствую ни ног, ни рук, ни носа. Никто не разговаривает, каждый боится упустить ту толику тепла, что позволяет двигаться, шевелить пальцами, Стоять на коленях перед корытом неудобно, затекают ноги, и я усаживаюсь на землю. От копчика по всему позвоночнику взбегает холод, вонзается острым кинжалом. Темнеет в глазах, а пальцы продолжают ломать скорлупу, вытаскивать ядро и, опуская его в воду, промывать.
– Скорее бы уже в ад попасть, – ворчит Надька, едва шевеля посиневшими губами. – Там на сковородках тепло. Чтобы отогреться мне и вечности не хватит.
Все усмехаются, но молчат, открывать рот и извлекать какие– то звуки тяжело. Зачем родине столько амгры?
Неужели вакцинация и отравление водоёмов требуют такого количества?
Наконец объявляют обеденный перерыв. Заключённые оживляются, кто– то отпускает шуточки, кто– то смеётся, сдавленно, осторожно, с трудом разлепляя замёрзшие губы. В голове крутятся слова нашей тюремной песенки. Да, у нас здесь свой фольклор и песни, и частушки, и стихи и даже приметы.
Обед, обед, его мы заслужили,
Мы добываем амгру для страны.
Её мы доставали, мыли и варили,
Примёрзли к заднице казённые штаны.
Мы просто бабы– жёны и подруги,
Мы тоже люди и хотим пожрать.
Обед, обед, и нету слаще муки,
Чем в очереди у бочка стоять.
На хилой старенькой лошадке с бурой, свалявшейся шерстью и грустными мудрыми глазами привозят огромный бак с каким– то варевом. Сегодня раздатчицей работает Лидуха, одна из подружек Ники, крупная краснолицая баба с торчащим ёжиком рыжих волос и, на удивление, пронзительно– визгливым голосом.
– В очередь! – визжит она.
Мы выстраиваемся. Вкусно звенит половник о стенки бочка, аппетитно что– то шмякается в железные миски.
Варево, как утверждают старожилы, это суп из пшёнки, ещё горячее, и приятно обжигает руки. Я блаженно закрываю глаза, наслаждаясь теплом и запахом съестного. Закоченевшие пальцы приятно покалывает, тепло бежит от дистальных фаланг к средним, к проксимальным, разливается по ладони, спускается к предплечью. Но нужно есть, скорее, пока тарелка не остыла, пока конвой не рыкнул: « Прекратить приём пищи! Работать!»
Чувствую, как горячая масса скользит по горлу, пищеводу, тело дрожит от радости, оно согрелось, оно утолило боль, скручивающую кишечник в тугой узел, грызущую желудок.