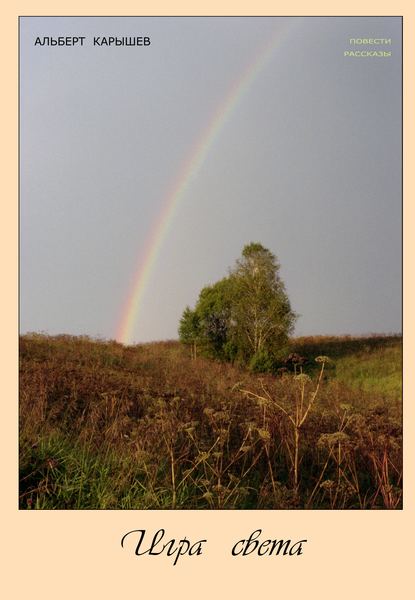По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Игра света (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И всё? – спросил я.
– А что вы ещё хотели? Небось, накормила выводок, сама поела и где-то бегает. Жду, когда снова объявится. Похоже, я её крепко напугала.
– Вам бы собачку завести, – сказал я, вставая. – И ночью с цепи её спускать. Спасибо за занятную историю.
– Про собачку я подумываю. Может, заведу. Кошка у меня уже есть. А вам спасибо, что яйцо подобрали. Гусыня эта не в первый раз безобразничает: кладёт яйца, где попало.
Я интересовался у тётки Полины, не наведывается ли к ней лиса. Нет, до конца лета Патрикеевна её больше не беспокоила. А потом, спустившись от своей избы в низину деревни, я увидел в помойной яме, устроенной некоторыми жителями у подножия горы, часть лисицы: голову с остекленевшими глазами, оскаленной пастью и примерно полтуловища с передними лапами. Она ещё долго проглядывала из-под помоев.
– Не ваша ли это разорительница там лежит? – спросил я Полину, пройдясь в очередной раз с ведром до колонки.
– Я ходила смотрела. Вроде похожа, – невесело ответила она, ёжась на крыльце от осеннего холодка. – Я её, правда, всего один раз видела, и то не при дневном свете, но, по-моему, она была как раз светло-рыжая. Собаки её, наверное, учуяли и задрали. Кто-нибудь отнёс на помойку. То-то больше куроцапка не показывается.
– Жалко лису, – сказал я.
– Жалко, – согласилась женщина. – И курочек мне жалко, и дуру эту, и её выводок. Если по правде рассуждать: это лисе так положено – кур у людей воровать, когда другая охота не клеится. Иначе сама с голоду подохнет и лисят уморит. Скорее всего, она не столько о себе заботилась, сколько о детях. Видно, хорошая была мамаша.
«Лошадь пашет…» или Трудная жизнь и вечное блаженство
Вспоминаю одну мою хорошую знакомую, престарелую крестьянку из лесной деревни Владимирщины, из-под Мурома. Престарелая-то она была престарелая (ко времени нашего знакомства ей исполнилось шестьдесят восемь лет), но держалась бодрее многих молодых.
Долгое время эта женщина по имени Алевтина, а по отчеству Степановна, жила одиноко, лишь кот Васька был при ней в доме, а значит, она всё делала на одни руки: мыла, варила, ходила по воду на колодец, косила сено и колола дрова, вскапывала огород и собирала в нём урожай. Она, как родное дитя, холила свою корову Белку и приторговывала жирным Белкиным молочком и сбитым из молочка прекрасным маслом. Дачники наперебой заказывали у неё то и другое, пили, ели и нахваливали, а разъезжаясь по домам, прихватывали образцовые Алевтинины молокопродукты с собой: ни во Владимире, ни в Москве таких не купить. Ко всему Алевтина страсть как любила вязать из овечьей шерсти, и чтобы шерсть всегда была под рукой, чтобы не искать её днём с огнём по деревне, держала собственных овечек.
Всё происходило на моих глазах. Сперва наше маленькое семейство: я, жена моя Вера и внучка Аня – жили у Алевтины на постое, по месяцу-два несколько лет с перерывами, а позднее, когда приобрели мы в той деревне собственный крестьянский домишко, то часто ходили к старой знакомой в гости.
Вижу Алевтину на её излюбленном месте – в кухне у окна. Левый верхний угол кухни, как войдёшь из сеней, облагорожен крупной иконой, потемневший золочёный оклад которой сверху накрыт чистеньким расшитым полотенцем, справа к стене приставлен несовременный посудный шкаф со стёршейся местами, красноватой полировкой, с незатейливой резьбой, круглыми стойками, поддерживающими верхний ящик. Сидя на крашеной лавке боком к окну, Алевтина прядёт – это одно из милых её сердцу занятий. Её ручная прялка устроена так («от прабабушки досталась»): широкая доска в основании, называемая донцем, а в донце с краю вставлена доска поуже – эта называется шестиком, вот и весь агрегат. На досках, если внимательно приглядеться, заметны когда-то яркие цветные узоры. Станок поставлен на лавку, и пряха, чтобы он не двигался, сидит на донце. Шестик торчит вверх под углом к донцу. Сверху к нему верёвочкой притянут клок овечьей шерсти – кудель. Одной рукой Алевтина раздёргивает кудель, на ходу скручивая прядку в нить, а другой, сжимая веретёнце, помахивает им вкруговую, сматывает нить. Всё – как встарь, в сумерках не хватает ещё лучины…
Очень меня интересовало отношение Алевтины к Богу, и однажды я, кивнув на икону, спросил:
– Алевтина Степановна, вот, гляжу, у вас такая хорошая икона, чувствуется, старинная, в золочёном окладе. Вы бережёте её, всегда перед ней горит лампада. Стало быть, вы истово верующий человек? Но я ни разу не видел, чтобы вы молились. Вообще-то вы молитесь, простите за нескромный вопрос?
– Да, – ответила она, – молюсь. Но на людях не люблю. Прилюдно молилась только в церкви, когда была моложе и ходила на праздничные богослужения. Очень уж от нас церква далеко, а то бы и сейчас ходила. А дома молюсь, когда никого рядом нет, а если кто есть, молюсь молча. У нас ведь с Богом свои секреты. Зачем их всем знать?..
А вот о чём я и жена моя вели с Алевтиной по вечерам долгие разговоры.
Внучка наша Аня после игр на свежем воздухе быстро засыпала в горнице, а взрослые сидели в кухне, закрыв остеклённую дверь в горницу и выключив радио на стене над столом, чтобы не мешало разговаривать. Пили чай с конфетами и вареньем. Потом хозяйка снова бралась за работу. Руки её большие, обветренные, припухлые, не могли отдыхать, им необходимо было всё время действовать: прясть, вязать на спицах или сбивать масло на примитивной маслобойке. Мы спрашивали Алевтину о её прошлом житье-бытье, и она охотно рассказывала. Я и жена сами были уже не слишком молоды и что-то из того, о чём она вспоминала, также знали: о бесплатных колхозных трудоднях в послевоенные годы, об изнурительных полевых страдах «за палочки» в ведомости, – но кое-что мы слышали от Алевтины впервые.
– Я работать пошла с двенадцати лет, ухаживала за телятами на ферме, десять телят опекала. Семья у нас была многодетная, отец рано умер. Закончила четыре класса, вот и вся моя учёба. Ни одёжки не было, чтобы в соседнее село в школу ходить, ни обувки. Ещё косила, снопы вязала, полола в поле, картошку из буртов выбирала… А в войну в лесу работала, – звучал высокий, бодрый, но как-бы всплакивающий Алевтинин голос, каким, между прочим, – не к печали будет сказано, – профессиональные плакальщицы причитают над покойником, а глаза её поглядывали не столько на слушателей, сколько на дело в руках, – живицу я добывала. Это сосновая смола. Живицей её прозвали, наверно, за то, что всегда она живая: не гниёт, не киснет, пахнет хорошо, сосной, солнечный свет сохраняет и медовый цвет. Жили мы в деревне, у себя дома, а на работу в лес ходили за четыре километра. Живицу добывают так: делают на соснах надрезы, «ёлочкой», а под ними пристраивают посуду – воронки без дырок; раньше всё железные были воронки, а теперь встречаю в лесу пластмассовые. В воронки живица и капает. А потом ходят добытчики, из воронок сливают в вёдра. Тащишь, бывало, два ведра, в каждом десять килограмм живицы, а за смену надо её собрать и слить в бочки сорок вёдер на человека. Зимой живица замерзает, в эту пору мы ходили по лесу ошкуривали сосны – тот участок на стволе, может, с метр длиной, где будет делаться надрез. Шагаешь по сугробу, на плечах стёганый ватник, на ногах подшитые валенки, на голове тёплый платок, на руках брезентовые рукавицы. Кругом лес, где-то сучья потрескивают, заячьи следы по снегу петляют, сосны под ветром качаются и шумят… Ещё зимой мы веники вязали, по шесть копеек за веник, тысяча веников – шестьдесят рублей. Или ошкуривали брёвна для пилорамы. А весной, летом, осенью, до заморозков – живица. В любую погоду работали: зной – не зной, дождь – не дождь, мороз – не мороз. И застуживались, и потом исходили, и комарьё заедало так, что лица опухали, в рожи превращались. Эх, как вспомнишь!..
Алевтина махала рукой и посмеивалась. Она была женщина жизнерадостная, но почему-то иной раз смеялась не в шутейную минуту, а рассказывая о тяготах своей жизни.
– Можно спросить вас, Алевтина Степановна, – как-то раз поинтересовался я, собираясь писать об Алевтине очерк, – для чего она нужна, эта живица?
– А для нужд фронта, – ответила крестьянка языком тогдашних газет и радиосводок Совинформбюро. – Оборонный заказ. Из живицы, оказывается, взрывчатку делали. Вот оно как!
– Взрывчатку?
– Ага. Порох, что ли.
– Вот это да! – Я причмокнул языком и с боку на бок качнул головой, выражая своё невежество, изумление и уважение к факту, что из сосновой смолы делали взрывчатку. – Ну, извините, что перебил. Давайте дальше.
– Дальше-то? – сказала Алевтина для разгона. – Что же дальше?.. Было мне в ту пору, когда в лесу работала, семнадцать лет, уже невестилась. А будущий мой супруг Николай участком нашим руководил. Мне семнадцать, начальнику двадцать. Под его началом только бабы, девки да подростки, а мужики и парни – все на войне… Я весёлая была, частушки пела, плясала, за словом в карман не лезла, в общем, как-то выделялась среди остальных. Николай глаз на меня положил. Приглянулись мы друг другу, полюбились, а через пару лет я замуж за него вышла. Свадьбу какую-никакую в деревне сыграли, без разносолов, но с гармошкой. Бабы с девками по полрюмке самогона выпили и запели, заплясали «Сашоночку» да «Елецкого», потом заплакали. Жених на гармошке играл… Он мне позже рассказывал, как его к участку приставили. В аккурат перед войной Николай закончил в Архангельске лесной техникум, и его направили к нам во Владимирскую область. А тут – сразу война. Вызвали парня в одно хитрое владимирское учреждение, к какому-то строгому военному. «Ты отличник учёбы, лучший выпускник, комсомолец, будешь руководить участком по добыче живицы в Селивановском районе», – военный говорит. «Не буду, – отвечает Николай. – Вы за кого меня считаете? Пойду на войну, хоть солдатом, хоть на ускоренные офицерские курсы посылайте. Мой возраст – призывной. Сверстники уходят, и я пойду». «А я говорю, будешь руководить участком». – «Нет, не буду. Не буду – и всё. Не умею я. Ещё не работал даже». Тогда военный достаёт из кобуры наган и кладёт на стол. «Вот. Если хорошо потрудишься, выполнишь задание Родины, похвалим, орденом наградим, а станешь артачиться, валять дурака – пуля в лоб, и весь разговор. Ты военнообязанный и подчиняйся приказу».
– Страсть какая! – Моя чуткая жена передёрнула плечиками, прикрытыми шалью. Вечерами в деревне бывало прохладно. Местность тут крутая, почти гористая, а Алевтина жила в низине, рядом с быстрой студёной речкой, по ночам от которой тихо, крадучись, как заходящее в тыл противнику войско, двигался на деревню туман.
– Да, страсть, – сказала хозяйка. – Ещё какая страсть-то! Это ведь всё без шуток. По законам военного времени кокнули бы из нагана и глазом не моргнули!
– И что же, ваш супруг выполнил задание Родины? – спросил я.
– Выполнил, ясное дело, раз жив остался, даже в тюрьму не угодил. Мы изо всех сил старались работать, уважали его.
Алевтина пояснила, что супруг был у властей в большом почёте, и обещанный орден ему выдали. Но после войны, сказала она невесело, стал мужик чудить, запил неожиданно и с каждым годом пьянствовал сильнее, по-чёрному.
– Как с ума сошёл. – Она свела брови, усиленнее заработала руками, острее вглядываясь в то, что делала. – Словно бес в него вселился. Трезвый – ангел, любит всех, прощения просит. А напьётся – зверь зверем, орёт: «Сволочи! Убью!», – крушит мебель топором, жену и детей лупит чем попало и из дому гонит. Бог знает, какие ему видения в это время мерещились. Может, то, как он опять в лесу надрывается, а мы – не близкие его, не родная ему семья, а фашисты, за кустами прячемся? «Убью-ю-ю!» – так и стоит до сих пор в ушах, и кулак мужнин вижу, и топор… Я уж и к ворожее в соседнюю деревню тайком ходила. Может быть, думаю, кто заколдовал моего мужа? Она карты раскладывала, бумагу жгла, воск топила, заставляла меня с зажжённой свечкой в полночь стоять и в разбитое зеркало смотреть: не покажется ли кто из темноты. Даже велела кольнуть палец и выдавить в водку каплю крови, а как муж захочет утром опохмелиться, налить ему в стакан и подать. «Есть у него, – говорит, – один тайный враг, которого мужу твоему надо изничтожить. Пока не изничтожит, будет такой неистовый…» Пустые слова. Что за тайный враг? А если и существовал такой, то как же его изничтожишь? Убить, что ли, надо было? Так за это расстрел полагался, сам себя изничтожил бы… Исхудал муженёк, лицо – как рыба вяленая, как вобла без чешуи. Я его жалела, не разлюбила ведь. Скрывала от всех то, что с ним происходит. Может, наоборот, не нужно было скрывать? Однажды я попробовала. Пошла к нашему партийному секретарю, потихоньку от мужа, конечно. Муж в леспромхозе тогда уже работал, начальником. Так и так, говорю, выручайте, Галина Андреевна. «Что у тебя?» – «Да муж вот дурит. Закладывать стал шибко». – «Ну, милая, пьян да умён – два угодья в нём. Твой муж, Жёлудева, отличный работник и партиец, любимый наш начальник. Ты вот простая женщина, а он видный, заслуженный, орденоносец, гордись им. Не надо накалять обстановку. Не будь такой сердитой, а то он от тебя сбежит. Относись к мужу ласковее, терпимее, осторожнее. Муж выпьет, муж прибьёт, но он же и кормилец, и защита ваша. И вообще ты счастливая. Посмотри, сколько женщин после войны остались вдовами, а у тебя муж – живой». Я и прикусила язычок… И что интересно, так ни один человек толком и не прознал о том, что у нас в доме творится, как мой супруг над семьёй измывается. Одна я слёзы глотала, да дети со страху по углам прятались. Дети тоже никому не рассказывали, стыдились… На работе-то он не пил, в контору являлся выбритый, в пиджаке, при галстуке, и работал, конечно, всегда хорошо. Партийные собрания исправно посещал, выступал на них, все заслушивались… А наши деревенские тут не в счёт. Слышали, как Жёлудев пошумливает, да махали рукой: почти у каждого в семье какие-нибудь свои нелады. Ровно в тридцать пять лет он сгинул, чуть не на свой день рождения. В октябре это было. Пришёл в тот день даже не сильно выпивший. «Я, – говорит, – Алевтина, что-то сильно озяб и устал. Ты печь истопи, а я посижу отдохну». Сел в кухне на стул, привалился к спинке, захрипел, пена изо рта, и помер. Сердце было никудышное и враз отказало. Допился, дурачок. Оставил меня с двумя детьми…
Особый рассказ был у неё про покойного сыночка Витю. Алевтина Степановна и не помнила, наверно, что повторяла его нам неоднократно, всегда почти одними и теми же словами. Всякий раз она переносила горе заново. Её душевная рана за долгие годы, очевидно, не зажила, саднила, кровоточила, только потрясение ушло вглубь. Сын её учился в Муроме в школе-интернате и на отлично закончил десятилетку. Умный он был, красивый, спортивный. С направлением военкомата парень готовился пойти в военно-морское училище, но летом накануне поездки в Ленинград сломал шейные позвонки, нырнув в Оку и обо что-то в воде ударившись. Работа выпадала у Алевтины из рук. С пугающим взглядом, утратившим направление и осмысленность, женщина бормотала, и губы её тряслись:
– В сознании Витенька умирал. «Ты, – говорит, – мама, не плачь, не волнуйся. Я подлечусь и поступлю в военно-морское училище». А сам еле языком ворочает, белый от боли… Знали бы, какой он у меня был. Такие мальчишки редко встречаются. Все бабы мне завидовали. И стирал, и варил, и косил, и в избе прибирался… Он ко мне ночью приходит, встанет в дверях, озарится небесным светом и зовёт: «Мама, это я, Витя, вставай, я к тебе пришел». А я не верю, прошу: «Ну-ка, повернись ко мне спиной, заверни рубашку, я посмотрю: у моего сына на спине две родинки были, одна возле другой». Повернётся, поднимет рубашку: правда, есть две родинки, там, где надо. Я к нему: «Витя!» А его уж нет, это мне видение было…
А за окном становилось совсем темно. Со двора к нам заглядывала отцветшая сирень, высвеченная электричеством из кухни. Охапки её пышных ветвей то замирали в безветрии, то качались под ветром и разбрасывались во все стороны крепкими его порывами. Если выйти на крыльцо, то услышишь, как неподалёку рокочет по перекатам речка, как трепещут и попискивают на уличных деревьях засыпающие птицы. Голоса человеческие, тем более юные, весёлые, слышались редко, деревню в полсотни домов населяли, главным образом, люди не слишком молодые и совсем старые, да ещё кое-какие дачники из Владимира, Мурома и Москвы. Глянув в ясную ночь с крыльца, видел я силуэт леса на высоком взгорье. Ночью лес пугал и настораживал. Вдруг принимался накрапывать дождь. Он скоро расходился, шлёпал крупными каплями по земле, щёлкал по крыше дома, как град, как горох, и через мгновение шумел всюду, заглушая рокот реки.
Когда шёл такой замечательный дождь, Алевтина вслушивалась в него и с необыкновенным блеском в глазах, ясно выражая лицом предвкушение счастья, произносила целый художественный монолог:
– Ух, какой льёт! И теплынь на дворе. Стало быть, пойдут грибы. Промочит как следует землю, и повыскакивают дружные ребята – сперва по опушкам, по полянкам, по бровкам и канавкам, где свету больше, а травы меньше. И челыши, и маслята нарастут, и подосиновики, и беленькие. Рыжикам тоже пора. А грузди и волнушки – ближе к осени, это поздние грибы… Хорошо-то как! Удовольствие большое по лесу с корзинкой бродить! Ягоды – я как-то не очень… Нет, беру на варенье, но словно повинность исполняю. А грибы и собирать, и чистить, и готовить люблю!
* * *
О том, что она делала зимой, я мог судить со слов нашей хозяйки: пряла, вязала, ухаживала за коровой и овечками, топила печи два раза в день, в комнате и кухне: морозы тут стояли трескучие и одной топки для обогрева не хватало, – расчищала сугробы перед домом. Но в дачный сезон я видел, как Алевтина Степановна проводит всякий летний день.
Поднималась крестьянка с постели в три-четыре часа. Иногда, просыпаясь, я слышал её. Вот она в кухне или сенях шагает по скрипучим половицам, вот поставила ведро, звякнув дужкой, вот перемещает по полу что-то тяжёлое, а вот – звуки доносятся издалека – на крытом дворе о чём-то весело разговаривает с коровой Белкой, и животина радостно мычит в ответ. Подоив её, Алевтина выгоняла корову в смешанное стадо, – коровы в нём были, козы и овцы, – бредущее на рассвете мимо её калитки, подгоняемое пастушьими криками и хлопками кнута, а как светлело, брала косу, шла на берег реки, косогор, опушку леса и по росе косила.
Она рассказывала мне про свои ощущения в этой лихой работе. Тело её под взмахи косы наливалось силой, ноги прочно стояли на земле, руки двигались уверенно, не знали усталости, из головы быстро исчезали ватные остатки сна, и на душе становилось хорошо, как в молодые годы. Ей нравилось видеть зарю, пламенное возгорание солнца за лесом, слепящий отблеск восхода на отточенном лезвии косы. Её слух услаждали птичьи голоса и звуки косьбы – ритмичные лёгкие музыкальные посвисты. Даже сырость на платье и резиновых сапогах лишь в первые минуты холодила, раздражала, но дальше была приятна женщине, бодрствующей спозаранку.
Покосив вволю, Алевтина шла прямо в огород: окучить картошку, «собрать жука», выдернуть сорную траву из грядок. Огородные работы не слишком ей нравились, она признавалась в этом, но так же усердно выполняла их, как все остальные. Алевтина привыкла надеяться только на себя, всё умела и ничего не умела делать плохо. Я помню её ухоженные картофельные бровки, старательно выдержанные по параллельным линиям, её ровные овощные грядки с прореженной ботвой моркови, с подвязанными к колышкам ломкими стеблями помидоров… Всё было прополото, полито, унавожено, и лишняя трава в огороде старательно выкашивалась, и крепко подпиралась кольями старая шаткая ограда, и чернели, краснели от обилия ягод кусты смородины, малины, крыжовника, благодарные хозяйке за добрый уход, и по всему огороду то здесь, то там красовались маки, мальвы, флоксы, настурции…
Часам к семи Алевтина кипятила чай на газовой плите (зять – о нём речь ниже – поставил ей плиту с балонным газом), жарила картошку или варила кашу, готовила овощной салат, выставляла на стол из холодильника (тоже подарок зятя) сметану, молоко, творог и будила нас стуком в дверь и командой:
– Дачники, подьём! Завтракать!
Она отдала в полное наше распоряжение большую светлую горницу, а сама ночевала в смежной с горницей тесной комнатке.
– Спасибо! – отзывались мы с женой и, встав с широкой старинной постели, прерывали сон внучки, так сладко спавшей на раскладушке. Анюта обычно просыпалась легко. Тут с ней хлопот не было.
Бабушка и внучка шли к рукомойнику с подкидывающимся штырьком, а я спешил пробежаться до речки по каменистой дорожке. Зачинался наш день беззаботных дачников. Стыдновато было перед пожилой женщиной, которая на рассвете успевала изрядно поработать да ещё за нами ухаживала, но что тут поделаешь, к неловкости, оказывается, можно привыкнуть. В кроссовках на босу ногу я трусил к мосту над бурным потоком, скачущим по известковым камням. Речку недалеко от моста давно запрудили, она прорывалась сквозь узкое горло – в этом заключался секрет её стремительности. На противоположном берегу перед запрудой разлилась тихая заводь, и в окружении больших старых ив, склонившихся над ней, образовался уютный песчаный пляжик. Местные дети купались здесь и ныряли в ледяной воде, выхоложенной донными родниками, а я, худой зябкий человек, боясь переохладиться и камнем пойти ко дну, омывался так, словно принимал святое крещение: заходил в купель, плескал себе на грудь, плечи, лицо и, очищенный от суетных помыслов, выходил на берег. Растеревшись полотенцем, я вешал его на плечо и, по пояс голый, шёл назад, отмахиваясь от комаров.
Садились завтракать. На свежем воздухе постояльцы нагуливали отличный аппетит, и хозяйка рада была потчевать нас и не требовала платы за свои продукты. Анюта, правда, ела неважно. Дед с бабкой и в городе затруднялись её кормить, и в деревне мучались, но не отступали: она казалась нам слишком худощавой и бледноватой, каковыми, наверно, все внуки на земле кажутся своим дедушкам и бабушкам.
– Ешь, ешь! – говорил я Ане. – Не смотри по сторонам, не лови ворон! Бери ложку и рубай салат!