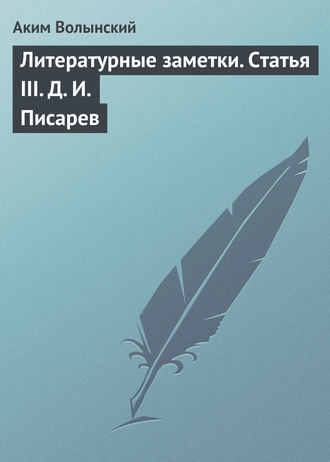
Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
В апрельской и июньской книгах «Русского Слова» 1865 года появились, наконец, обещанные статьи Писарева под названием «Пушкин и Белинский». В первой из них Писарев подробно разбирает «Евгения Онегина», во второй лирику Пушкина. Но мы начнем со второй, потому что в ней Писарев точно определяет свои отношения к двум предыдущим русским критикам, высказывает несколько общих теоретических соображений и, наконец, приводит к известному единству все разнообразные поэтические черты, разбросанные в стихотворениях Пушкина. Не по таланту, а по своему историческому значению это самые важные из статей Писарева. Вся его огромная известность в русском обществе основана на этом критическом разборе поэтических произведений Пушкина, невероятном по резкости тона, по открыто выраженному презрению к его светлому гению. Статьи эти, так сказать, ввели в литературу грубую утилитарную логику, чуждую всяких утонченных эстетических интересов и, забрызгав уличною грязью вдохновенные поэтические страницы, надолго убили критическое понимание русского общества. Дико насмеявшись над Пушкиным и приложив к его творчеству критерий новейшего реализма, Писарев с шумом и звоном победного ликования провозгласил полное ничтожество того, кого общественное мнение до сих пор считало лучшим представителем русского искусства. Поэт с гениальным умом и с талантом свободным и смелым, как стихия природы, был выведен на рыночную площадь и, оговоренный перед лицом толпы, как изменник её насущным интересам, подвергнут беспощадному суду её типичных, тупых и нагло-самоуверенных представителей. С этого момента в русской литературе должен был начаться тот разлив вульгарных притязаний и тиранических придирок по отношению к произведениям искусства, которому присвоено наименование либеральной тенденциозной критики и которому русское общество обязано целым рядом почти позорных ошибок в эстетических приговорах и пагубным предубеждением против высших, себе довлеющих интересов человеческой природы. До знаменитой речи Достоевского на Пушкинском празднике в Москве, когда с такою силою прозвучал протестующий голос этого фанатического апостола истинного искусства, над развитием художественной литературы тяготела узкая программа утилитаризма, сдавливавшая её рост, сковывавшая её воздействие на общественное сознание, державшая под страхом отвержения свободную работу поэтических талантов. Слово Писарева, несмотря на всю свою внутреннюю пустоту, несмотря на явный недостаток меткости и настоящего остроумия, произвело свое громадное влияние на общество, развязав его деспотические стремления, признав за его случайными, пристрастными и недальновидными суждениями значение верховного суда в вопросах, требующих для своего разрешения тонкого чутья и изысканной умственной подготовки. Вся эта серая накинь бессвязных философских идей с оттенком научного недомыслия и фанфаронской передовитости, все эти заносчивые окрики на деятелей искусства, идущих к высшей цели народного просвещения по своим самобытным путям, вся эта раздраженная нетерпимость, свирепо бичующая за малейшее уклонение от партийного шаблона – все это началось отсюда, с этих двух знаменитых статей Писарева о Пушкине. И что особенно важно заметить и что уже указано нами в наших предыдущих статьях, Писарев, в своих суждениях о Пушкине, о задачах поэзии шел по стопам не только Чернышевского и Добролюбова, но и Белинского, который в последнем периоде своей деятельности, несмотря на свою удивительную природную чуткость в вопросах искусства, оставил огромный материал для реалистической разработки такого именно рода, Писарев сам хорошо сознавал выгодность своего положения в качестве открытого партизана философских идей Чернышевского и свободного от всяких эстетических предрассудков и шелухи гегелизма преемника Белинского. Обороняясь от своих противников, он прямо ссылается на Белинского, которого называет при этом своим великим учителем. В некоторых суждениях Белинского он видит живые элементы, развернувшиеся в 1855 г. в знаменитом трактате Чернышевского. Идеи Белинского, прошедшие через научную переработку Чернышевского и получившие при этом простоту и ясность общедоступной аксиомы, восприняты им и приложены к оценке отдельных явлений русской литературы. В статьях Белинского – корень того явления, которое с такою силою стало заявлять себя на страницах «Русского Слова», вызывая на бой все то, что стояло на пути его развития. Осуждая приемы реалистической критики в лице Писарева, мы должны произнести беспристрастное, безбоязненное слово осуждения тем многочисленным и, по своему яркому таланту, крайне влиятельным реалистическим уклонениям Белинского, которые создали известную атмосферу для исступленного отрицания Писарева. «Уже в 1844 году, заявляет Писарев, была провозглашена в русской журналистике та великая идея, что искусство не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства, а слишком двадцать лет спустя тот самый журнал („Отечественные Записки“), который бросил русскому обществу эти две блестящие и плодотворные идеи, с тупым самодовольством восстает против Эстетических отношений, которые целиком построены на этих двух идеях»[30]. Даже самые смелые и блистательные сальтомортале Зайцева оправдываются, по мнению Писарева, этими двумя идеями, и не подлежит никакому сомнению, что между теперешними реалистами и Белинским существует самая тесная родственная связь. Кто принимает Белинского, тот, во имя простой логической последовательности, не может отказаться и от философских воззрений Чернышевского. Кто внимательно усвоил все суждения Белинского о Пушкине, в том виде, в каком они отразились в его критических статьях об «Евгении Онегине» и других произведениях Пушкина, тот должен согласиться с воззрениями Писарева, признав, что они представляют собою только законченный вывод из посылок его учителя. Оговорившись таким образом относительно главных пунктов своего единомыслия с Белинским, Писарев на нескольких страницах приводит его отдельные теоретические взгляды, не выдерживающие, по его мнению, никакой серьезной критики и затем разражается оглушительным свистом по поводу восьми лирических стихотворений Пушкина. Он приводит небольшую цитату из VIII тома Белинского, где говорится, что настоящее художественное произведение есть нечто большее, чем известная идея, втиснутая в придуманную форму. Как бы ни была верна мысль человека, если у него нет настоящего поэтического таланта, произведение его все-таки выйдет мелочным, фальшивым, уродливым и мертвым. Толпа не понимает искусства: она не видит, что без творчества поэзия не существует. Так рассуждает Белинский. Но Писарев, окончательно стряхнувший с себя прах каких либо эстетических пристрастий, свойственных ему по природе и оживлявших поэтическим огнем его юношеские заметки на страницах «Рассвета», не находит в этих мыслях ничего, кроме «богатой дани эстетическому мистицизму», который держится в обществе благодаря отъявленному шарлатанству одних и трогательной доверчивости других. По свойственной ему наивности. Белинский думает, что поэты не втискивают идеи в форму, а между тем, с уверенностью заявляет Писарев, «все поэтические произведения создаются именно таким образом: тот человек, которого мы называем поэтом, придумывает какую-нибудь мысль и потом втискивает ее в придуманную форму»[31].
Поэт, как плохой портной, кроит и перекраивает, урезывает и приставляет, сшивает и утюжит до тех пор, пока в окончательном результате не получится нечто правдоподобное и благообразное. Поэтом можно сделаться, точно так же как можно сделаться профессором, адвокатом, публицистом, сапожником, ибо художник такой же ремесленник, как и все те, которые своим трудом удовлетворяют различным естественным или искусственным потребностям общества. Подобно этим людям, он нуждается в известных врожденных способностях, но у каждого «нормального и здорового экземпляра человеческой породы» обыкновенно встречается именно та доза сил, которая нужна ему для его ремесла. «Затем все остальное довершается в образовании художника впечатлениями жизни, чтением и размышлением и преимущественно упражнением и навыком». После такого простодушно-развязного вступления, Писарев, подходя к Пушкину, счищает своим рабочим ножом шелуху гегелизма с критических определений Белинского. Нашему «маленькому» Пушкину, замечает он, решительно нечего делать в знатной компании настоящих, больших, европейских талантов, к числу которых относит его Белинский. «Наш маленький и миленький Пушкин не способен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют». Что такое Пушкин, в самом деле? спрашивает Писарев. «Пушкин – художник?! Вот тебе раз! Это тоже что за рекомендация?» Пушкин – художник, и больше ничего. Это значит, что он пользуется своею художественною виртуозностью, как средством «посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия». Серьезно толковать о его значении для русской литературы напрасный труд, и в настоящее время он может иметь только историческое значение для тех, которые интересуются прошлыми судьбами русского стиля. Место Пушкина не на письменном столе современного реалиста, а в пыльном кабинете антиквария, «рядом с заржавленными латами и изломанными аркебузами». Для тех людей, в которых Пушкин не возбуждает истерической зевоты, его произведения оказываются вернейшим средством «притупить здоровый ум и усыпить человеческое чувство»[32].
Обращаясь к отдельным лирическим стихотворениям Пушкина., Писарев с распущенностью площадного оратора коверкает в грубых и нелепых фразах его тонкие поэтические мысли. Он издевается над Пушкиным с полною откровенностью. Он хохочет над его талантом, топчет грязными охотничьими сапогами лучшие перлы Пушкинской поэзии, то комкает в нескольких фразах полные глубокого смысла лирические строфы, то, затягиваясь для возбуждения умственных сил дозволенною реалистическим уставом хорошею сигарою, размазывает на многие страницы длиннейший резонерский комментарий к какому-нибудь маленькому стихотворению. И каждое новое объяснение того или другого поэтического образа сопровождается у него надменными нотациями по адресу ловкого, но пустого стилиста, лишенного образования, чуждого лучшим интересам своей эпохи, плохо владеющего орудиями простого и ясного логического мышления. Окончательно убедившись в совершенном ничтожестве Пушкина, Писарев уже не выбирает никаких особенных выражений для передачи своей мысли: он то фамильярно подступает к самому Пушкину и, пуская ему в лицо густой дым своей сигары, как-бы приглашает его самого понять всю глубину его нравственного падения, то с игривой ужимкой обращается к передовой публике, призывая ее в свидетели недомыслия я явного умственного убожества поэта. Разбирая стихотворение Пушкина «19-ое октября 1825 года», где Пушкин в трогательных стихах вспоминает некоторых своих лицейских товарищей, Писарев приводит его отдельные куплеты и затем подвергает их особому, мучительно искусственному истолкованию в нарочито-плебейском стиле. Пушкин говорит:
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,Хвала тебе – Фортуны блеск холодныйНе изменил души твоей свободной:Все тот же ты для чести и друзей.Нам разный путь судьбой назначен строгой;Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,Но невзначай проселочной дорогойМы встретились и братски обнялись.Желая, по-видимому, представить Пушкина человеком без гордости и чувства собственного достоинства, Писарев на целой странице допекает поэта вопросами о том, почему бы фортуна могла испортить Горчакова и что особенного в том, что при встрече они дружески обнялись. Допустив, для реализации изображенного положения, что Фортуна могла разделить товарищей различием каких-нибудь двух-трех чинов, он передает всю соль поэтического куплета в следующих коротких словах: «коллежский советник великодушно обнял титулярного, и Пушкин восклицает с восторгом: хвала тебе, ваше высокоблагородие». Приводя на другой странице известные слова из стихотворения «Чернь», Писарев донимает поэта следующими необузданно-грубыми вопросами: «Ну, а ты, возвышенный кретин, ты сын небес, в чем варишь себе пищу, в горшке или в Бельведерском кумире? Или, может быть, ты питаешься только амброзиею, которая ни в чем не варится, а присылается к тебе в готовом виде из твоей небесной родины?» Писареву кажется совершенно невероятным то презрение, которое поэт обнаруживает по отношению к назойливой черни. Уверенный в том, что тщеславие составляет преобладающую страсть в деятельности чистых художников, он не может постичь, какие силы способны их двинуть против общего течения? «Все отрасли искусства, провозглашает он, всегда и везде подчинялись мельчайшим и глупейшим требованиям изменчивого общественного вкуса и прихотливой моды». Перебрав два-три стихотворения Пушкина и отпустив относительно каждого из них по несколько вульгарных шуток и пошловатых острот, Писарев, в заключение статьи, выкидывает ряд неприличных акробатических фокусов по поводу знаменитого вдохновенного пророчества Пушкина, начинающегося словами: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»… Почти задетый крылом смерти, под надвигающейся зловещей, грозовой тучей, дышащей влажным холодом, изъятый из оживленного круга своих друзей, осыпаемый низкими подметными письмами, окруженный шипящей клеветою и уже слегка удаленный от зыбкой, изменчивой симпатии легкомысленной толпы, Пушкин, в минуту духовного откровения, видит свою судьбу в ином лучшем свете.
В этом поразительном стихотворении, в котором, несмотря на ровный, далеко вперед льющийся свет надежды, все образы смягчены широкою благородною грустью, Пушкин не проронил ни одного лишнего слова, и его каждое выражение шевелит нежнейшие струны сердца. Но Писарев сделал из этого стихотворения какую-то скверную буффонаду. Дело Пушкина, восклицает он, не задумываясь над судьбою своих собственных слов, проиграно окончательно. Мыслящие реалисты имеют полное право осудить его безапелляционно. «Я буду бессмертен, говорит Пушкин, потому что я пробуждал лирой добрые чувства. Позвольте, господин Пушкин, скажут мыслящие реалисты, какие же добрые чувства вы пробуждали? Любовь к красивым женщинам? Любовь к хорошему шампанскому? Презрение к полезному труду? Уважение к благородной праздности?» Писарев уверен в полной убедительности своих доказательств, убийственности своих допросов и потому, подведя итог всем своим взглядам на Пушкина, он следующим образом передает свое настоящее мнение о нем. «В так называемом великом поэте, пишет он, я показал моим читателям легкомысленного версификатора, опутанного мелкими предрассудками, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века…»[33] Стихотворение Пушкина, начавшееся торжественным аккордом, заканчивается строфою, выражающею истинно философскую твердость, которая в самой грусти одерживает полную духовную победу в настоящем и будущем. Высшее религиозное настроение дает поэту решимость мужественно встретить всякий приговор современников и потомства:
Велению Божию, о муза, будь послушна:Обиды не страшись, не требуя венца,Хвалу и клевету приемли равнодушноИ не оспаривай глупца.Разбор «Евгения Онегина» отличается теми же красотами остроумия и тонкого понимания, какими блистает критика лирических стихотворений Пушкина. Все произведение кажется Писареву совершенно ничтожным. В нем нет даже исторической картины нравов, никаких материалов – бытовых или психологических, – для характеристики тогдашнего общества в физиологическом или патологическом отношении. Это какая-то коллекция старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, «старинной мебели и старинных ужимок». Онегин – ничто иное, как Митрофанушка Простаков, одетый и причесанный по столичной моде двадцатых годов, и скука Онегина, его разочарование жизнью не могут произвести ничего, кроме нелепостей и гадостей. «Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может выпить их тридцать-три. Если бы человеческое брюхо не имело пределов, то Онегинская скука не могла-бы существовать. Белинский любит Онегина по недоразумению, но со стороны Пушкина тут нет никаких недоразумений»[34]. Онегин – это вечный и безнадежный эмбрион. Расхлестав Онегина ходкими словами из современного естественно научного лексикона, Писарев упрекает Пушкина за то, что он возвысил в своем романе такие черты человеческого характера, которые сами по себе низки, пошлы и ничтожны. Пушкин, говорит он, так красиво описал мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что он подкупил в пользу ничтожного Онегина не только простодушную толпу читателей, но даже такого тонкого критика, как Белинский. Взяв под свою защиту «нравственную гнилость и тряпичность», прикрытую в романе сусальным золотом стихотворной риторики, Белинский восторгается Пушкиным тогда, когда его следует строго порицать и, с последовательностью убежденного реалиста, выставить на позор перед всей мыслящей Россией.
Показав в юмористическом свете фигуру Онегина, Писарев начинает выводить на чистую воду Татьяну, эту любимицу пушкинской фантазии, героиню первого русского романа, бессмертный тип русской женщины, с её поэтическими грезами, схороненными в глубине души, с её смелостью и прямотою под юношескою бурею любви, с её непоколебимою твердостью в борьбе с нравственными искушениями. С начала романа до конца она стоит перед нами живая, нежная, верная себе в каждом слове, достигая в последнем монологе чарующей горделивой красоты. Она любит Онегина, но не сделает теперь ему навстречу ни одного шага, потому-что его неожиданно вспыхнувшее чувство кажется ей мелким по мотиву. Она бросает Онегину упрек, проникнутый глубокой горечью, упрек, в том, что, не сумев понять и полюбить её душу, он увлекся теперь случайною эффектностью её положения в свете и обстановки. Не из верности условному долгу, а из нравственной гордости, не позволяющей человеку быть жертвой чужой изменчивой прихоти, она не ответит на его страстные мольбы. Суровость его прежних холодных назиданий она считает более благородною и потому менее оскорбительною для себя, чем его теперешние письма:
Тогда имели вы хоть жалость,Хоть уважение к летам…А нынче!.. Что к моим ногамВас привело? Какая малость!Как, с вашим сердцем и умом,Быть чувства мелкого рабом?Она любит Онегина, но, не любимая им тою любовью, которая всегда носилась в её мечтах, и презирая, как ветошь маскарада, весь тот блеск и чад, который кружит голову Онегину, несмотря на его разочарованность, она уже не сойдет с того пути, на который решилась вступить в трагическую минуту своей жизни… Писарев, рассматривая образ Татьяны, не находит в нем ничего привлекательного и даже мало-мальски удовлетворительного с точки зрения новейших требований реализма. Голова её «засорена всякою дрянью». Она предпочитает страдать и чахнуть в мире «воображаемой» любви, чем жить и веселиться «в сфере презренной действительности». Комментируя «бестолковое» письмо Татьяны к Онегину, он перебивает приводимые им цитаты грубыми обращениями к самой Татьяне: «Это с вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете бедным и усердно молитесь Богу, но только зачем же вы сочиняете небылицы?», «Да перестаньте же, наконец, Татьяна Дмитриевна, ведь вы уже до галлюцинаций договорились!..» Передавая смысл последнего монолога Татьяны, Писарев открывает в нем самое ничтожное прозаическое содержание. По его словам, Татьяна говорит Онегину: «Я вас все-таки люблю, но прошу вас убираться к черту. Свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования». Татьяна ничего не любит, никого не уважает, никого не презирает, а живет себе, разгоняя непроходимую скуку «разными крошечными подобиями чувств и мыслей». Вообще говоря, Пушкин в своей Татьяне рисует с восторгом «такое явление русской жизни, которое можно и должно рисовать только с глубоким состраданием или с резкою ирониею»[35]. Так разделывается с Татьяною стремительный критик «Русского Слова». Представив в утрированном виде некоторые рассуждения о ней Белинского, он сделал два-три дополнительных вывода в реалистическом духе и свел все произведение к заурядному и скверному по тенденции романическому рассказу. Пушкин оказался разбитым на голову, и его ложная слава, мешавшая успехам русского просвещения, рассеяна дуновением отрезвляющего ветра.
Но Пушкин как-бы предвидел все превратности судьбы «Евгения Онегина», когда дописывал его последние вдохновенные строфы. Его не пугала никакая критика. С простодушием молодого гения, легко и непринужденно творящего самые сложные произведения, он бесстрашно приглашает всех на суд своего только-что оконченного романа. Он сам почти не чувствует значения своего труда, который он называет малым. Он работал с наслаждением, он излил в образах Онегина и Татьяны свою пылкую душу, и теперь он спокойно ждет приговора современников и потомства:
Кто-б ни был ты, о мой читатель,Друг, недруг, – я хочу с тобойРазстаться нынче, как приятель.Прости. Чего-бы ты за мнойЗдесь ни искал в строфах небрежных:Воспоминаний ли мятежных,Отдохновенья ль от трудов,Живых картин, иль острых слов,Иль грамматических ошибок,Дай Бог, чтоб в этой книжке ты,Для развлеченья, для мечты,Для сердца, для журнальных сшибокХотя крупицу мог найти.За сим – расстанемся, прости.В этой статье о Пушкине и Белинском Писарев сделал только практическое приложение своих общих идей, изложенных в теоретической форме в разборе знаменитого трактата Чернышевского и развившихся в нем под влиянием этого трактата. Разрушая всякую эстетику, Писарев продолжал дело своего учителя и потому имел полное право бросить критику «Современника», в этот период его существования, упрек в отступничестве от его прежних философских принципов. Эстетический элемент должен быть совершенно изъят из обсуждения художественных произведений, потому что эстетик может рассматривать только то, что не существенно в созданиях искусства, – их форму, внешнее выражение внутренней мысли. Когда между двумя критиками возникает спор по поводу какого-нибудь литературного явления, им для разрешения вопроса приходится заглядывать в естествознание, в историю, в социальную науку, в политику, но об искусстве между ними не будет сказано ни одного слова, если только их интересует существо дела. «Именно потому, что оба критика будут спорить между собою не о форме, а о содержании, именно поэтому они оба окажутся адептами того учения, которое изложено в Эстетических отношениях»[36]. Чернышевский своею доктриною оградил разумную критику от опасности «забрести в пустыню старинного идеализма». Он уничтожил самый принцип, самый фундамент эстетики вообще, потому что доказал пустоту и призрачность прежних, старых представлений о красоте. Писарев ни в чем не возражает Чернышевскому и, воюя с Антоновичем, только усиливает грубость отрицания, только откровеннее и прямее, чем Чернышевский, не маскируясь ученым человеком, выражает свои основные убеждения в этом вопросе. Статья «Разрушение эстетики», напечатанная между первою и второю статьею о Пушкине и Белинском, служит как-бы соединительным звеном между частным рассуждением об одном из произведений Пушкина – «Евгении Онегине» – и главными тезисами его общих суждений, выраженных по поводу Пушкинской лирики. Эта статья связывает в один солидарный союз Чернышевского, Писарева и Белинского, в последнем периоде его литературной деятельности.
Статья «Пушкин и Белинский» была главным делом Писарева в 1865 г., но к статье этой по тенденции примыкают и такие очерки, как «Мыслящий пролетариат», представляющий в некоторых отношениях талантливую характеристику Помяловского, «Сердитое бессилье» – сокрушительный разбор обличительного романа Клюшникова «Марфво», заключающего в себе, вопреки беспощадному глумлению критика, некоторые интересные черты современной жизни, «Посмотрим», содержание которого мы уже знаем, «Промахи незрелой мысли» (конца 1864 г.) – очерк, написанный в духе общих педагогических взглядов Писарева и, наконец, «Прогулка по садам Российской словесности» – огромное литературное обозрение, задевающее в полемической форме ряд текущих журнальных вопросов. В этой последней статье Писарев дает характеристику Аполлону Григорьеву, этому «чистому и честному фанатику отжившего романтического миросозерцания», щелкает Писемского за его «Взбаломученное море», поносит Аверкиева за дух мракобесия и сикофантства, огрызается против Островского, которому пророчит союз с Кахановскою, Аксаковым и Юркевичем, а «никак не с мыслящими реалистами нашего времени». По дороге он, не вдаваясь в серьезную критику, жестоко отделывает Стебницкого-Лескова, попрекая его даже безграмотностью, за некоторые его объяснения по поводу романа «Некуда». Не проводя никакой черты между Стебницким и «с позволения сказать» Клюшниковым, он предает поруганию автора «Некуда», этого истинно талантливого писателя, за его смелое и во многих отношениях глубоко-правдивое изображение современных нравов. Свою несправедливую филиппику против Лескова Писарев заканчивает следующими двумя вопросами, на которые время., уже дало свои ответы – и не в том смысле, как ожидал их Писарев. «Меня очень интересуют, заявляет Писарев, следующие два вопроса: во-первых, найдется ли теперь в России, кроме Русского Вестника, хоть один журнал, который осмелился-бы напечатать хоть что-нибудь, выходящее из под пера Стебницкого и подписанное его фамилией, и во-вторых, найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого»[37]. Весь смысл этой пространной статьи сводится к тому, что не может быть иной философии, кроме реалистической, и что новейшая критика «Русского Слова», связанная историческою преемственностью с идеями Белинского и непосредственно вышедшая из школы Чернышевского, должна быть признана самым прогрессивным явлением времени. Он, Писарев, популяризатор этой философии, борец на поприще литературной критики за трезвое понимание искусства и жизни. Чернышевский – законодатель эпохи. Он, Писарев, – беспристрастный и последовательный судья тех явлений, старых и новых, которые возникали и возникают на русской почве. Никто лучше Писарева не объяснил романа Тургенева в духе реалистических идей и никто с такою отвагою не выражал своих симпатий тому произведению, которое при своем появлении взволновало все русское общество – не своими литературными красотами, а заманчивой картиной утопических нравов, с загадочными намеками на жгучую современность и скрытое в тумане будущее.







