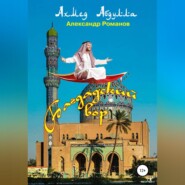По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Багдадский вор, или Фэнтези по мотивам «Сказок 1000 и одной ночи»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Хай! – сказал он себе, сидя на перилах балкона и с наслаждением жуя. – Жизнь прекрасна, а тот, кто работает и стремится к большему – дурак!»
ГЛАВА II
Между тем оставшийся на Площади индус продолжал свое колдовство. Он положил на землю сухое семечко манго, чтобы весь мир мог его увидеть. Трижды он провел по нему рукой, бормоча таинственные индейские слова:
…
«Бхут, прет, писах, дана,
Чи мантар, саб никал джана,
Грива, грива, Шивка хана…»
…
И семя манго лопнуло – затем оно выросло – и вдруг взмыло в воздух – в цвету – в плоде. Он снова взмахнул рукой и – вот! – манго исчезло.
Факир попросил мальчика подойти. Он прошептал тайное слово, и внезапно в его правой руке сверкнул сверкающий хайберский меч. Он занёс его высоко над головой. Он ударил им изо всех сил. И голова мальчика покатилась по земле; брызнула кровь; в то время как зрители были в ужасе, втягивая воздух, как маленькие шепелявые младенцы в темноте. Затем он снова взмахнул рукой, и вот уже мальчик снова на ногах, его голова на шее, где ей и полагалось быть, с улыбкой на губах.
Так трюк следовал за трюком, в то время как толпа аплодировала, вскрикивала, содрогалась, смеялась, болтала и удивлялась, пока, наконец, индус не объявил о величайшем из всех своих трюков – трюке с волшебной веревкой.
– Это верёвка, – объяснил он, разматывая ее и со свистом рассекая воздух с резким шумом, – сплетенная из волос пурпурнолицей ведьмы из секты левшей! Никогда во всем мире не было такой веревки! Смотрите, о правоверные!
Свист! – он подбросил верёвку в воздух, прямо вверх, и она осталась стоять там, без опоры, прямая, гибкая, как тонкое дерево, ее верхний конец был параллелен перилам балкона и прямо перед глазами Ахмеда, который с трудом сдерживал зуд в ладонях. "Зачем фокуснику, – подумал он, – обладать этой волшебной веревкой?!" Какую она могла бы оказать помощь Багдадскому Вору!
Индус хлопнул в ладоши.
«Хая! Хо! Джао!» – закричал он; и внезапно мальчик исчез, растворился в никуда, в то время как зрители разинули рты.
«Хая! Хо! Джао!» – повторил колдун; и дрожащий крик благоговейного изумления вырвался из толпы, когда они увидели там, высоко на веревке, появившегося из ниоткуда, в котором он исчез, мальчика, цепляющегося за него, как обезьяна. В следующее мгновение он соскользнул вниз и обошел аудиторию, прося бакшиш, который был щедро предоставлен; и даже Ахмед был готов подчиниться импульсу и уже полез в свои мешковатые штаны за монетой, когда хриплый, гортанный крик ярости заставил его быстро обернуться. Там, похожая на тучную богиню гнева сливового цвета, стояла нубийская кухарка, пришедшая из недр дворца. Она увидела миски с едой; увидела, что нечестивые руки играли с их содержимым; увидела алчно жующего Ахмеда; и, сложив два и два, пошла на него, размахивая своим тяжелым железным ковшом для перемешивания риса, как боевым топором сарацинов.
Ахмед обдумал и действовал в одну и ту же долю секунды. Он оттолкнулся от перил балкона, прыгнул прямо на волшебную веревку, ухватился за нее, и вот он уже болтается в воздухе, повариха выкрикивала ему проклятия сверху, индус вторил им снизу. И будь то упоминание – в пользу Ахмеда или к его стыду, как вам больше нравится, – но он ответил на оба, беспристрастно, оскорбительно, с энтузиазмом, оскорблением на оскорбление и проклятием на проклятие.
– Вернись сюда, о, Сын безносой матери, и заплати за то, что ты украл! – кричала повариха.
– Спускайся сюда немедленно, о Верблюжье отродье, и будь жестоко избит! – требовал колдун.
– Я не сделаю ни того, ни другого! – засмеялся Багдадский Вор. – Здесь, наверху, мне просторно, приятно и очень эксклюзивно! Вот я здесь, и здесь же я и останусь!
Но он этого не сделал. Ибо в конце концов факир потерял терпение. Он сотворил ещё один магический пасс, прошептал еще одно секретное слово, и… веревка поддалась, изогнулась, дернулась из стороны в сторону, обмякла, упала наземь, и Ахмед растянулся на земле. Почти сразу же он снова был на ногах, его проворные пальцы вцепились в веревку. Но рука индуса была столь же быстрой, как и у Ахмеда, и так они стояли, дергая за веревку, а толпа смотрела и смеялась, как вдруг издалека, там, где возвышалась мечеть, её минарет из розового камня был наполовину покрыт блестящей фаянсовой плиткой тёмно-зелёного павлиньего цвета, донесся голос муэдзина, повторяющего призыв к полуденной молитве, тем самым утихомиривая извечную рыночную суматоху:
«Эс салят ва эс-салам алейк, ях аувел халк Иллах ва хатимат рассул Иллах – мир Тебе и слава, о первенец созданий Божьих и печать апостолов Божьих! Привет вам, преданные! Привет вам, спасающиеся! Молитва лучше, чем сон! Молитва лучше, чем еда! Благослови вас Бог и Пророк! Придите, все вы, верующие! Приходите на молитву! Приходите на молитву! Приходите на молитву!»
«Ва хатимат рассул Иллах…» – пробормотала толпа, поворачиваясь в сторону Мекки.
Люди пали ниц, касаясь земли ладонями и лбами. Индус присоединился к ним, горячо распевая молитвы. Ахмед сделал то же самое, хотя и не так рьяно. Действительно, в то время как механически, автоматически, он поклонился на Восток, и пока его губы произносили слова молитвы, его блуждающие, беззаконные глаза заметили волшебную веревку между ним и индусом. Последний, занятый своими молитвами, не обращал на это никакого внимания. Мгновение спустя, воспользовавшись своим шансом, Ахмед подобрал верёвку и быстро зашагал прочь, перешагивая через согнутые спины молящихся. Он бежал со всех ног через заросли маленьких арабских домиков. Он увеличил скорость, когда вскоре после этого услышал вдалеке крик погони за человеком, когда индус, оторвавшись от своих молитв, заметил, что его драгоценная веревка украдена.
«Вор! Вор! Лови вора!» – крик поднялся, раздулся, пронзил тишину площади, распространился.
Вор бежал так быстро, как только мог. Но преследователи неуклонно настигали его, и он почувствовал страх. Только за день до этого он наблюдал, как одного его незадачливого коллегу по профессии публично жестоко избивали хлыстами из шкуры носорога, которые разорвали спину пройдохи в багровые клочья. Ахмед содрогнулся при этом воспоминании. Он бежал до тех пор, пока его легкие не стали на грани разрыва, а колени готовы были подогнуться под ним.
Он уже завернул за угол улицы Мясников, когда показались его преследователи. Они увидели его.
– Вор! Вор!.. – крики взмывали в небо и отдавались эхом, резкие, мрачные, зловещие, замораживающие мозг в костях.
Куда он мог обратиться? Где ему спрятаться самому? И тогда он вдруг увидел прямо перед собой огромное высокое здание; и увидел над собой, на высоте десяти метров, открытое окно, похожее на молчаливое приглашение. Как достичь вожделенного подоконника? Безнадежно! Но в следующее мгновение он вспомнил о своей волшебной веревке. Он произнес тайное слово. И веревка размоталась, просвистела, встала прямо, как копье в покое, и он поднялся по ней, перебирая руками.
Он добрался до окна, забрался внутрь и потянул за собой веревку. В доме никого не было. Он промчался по пустым комнатам и коридорам; вышел на крышу и пересёк её; перепрыгнул на вторую крышу – пересёк и ее; третью; четвертую; пока, наконец, проскользнув через люк, он не оказался – впервые за свое неосвященное существование – в Мечети Аллаха, на потолочных стропилах.
Внутри, под ним, высокий мулла с добрыми глазами и в зеленом тюрбане обращался к небольшой группе правоверных.
– Во всем есть молитва к Аллаху, – говорил он, – в жужжании насекомых, аромате цветов, мычании скота, вздохах ветерка. Но никакая молитва не сравнится с молитвой честного, отважного человека за его труды. Такая молитва означает счастье. Счастье нужно заслужить. Честный, смелый, бесстрашный труд – величайшее счастье на земле!
Чувство, противоположное жизненной философии Ахмеда, переполнило его при этих словах.
– Ты лжешь, о наставник правоверных! – крикнул он со стропил, соскользнул вниз и посмотрел на муллу дерзким взглядом и высокомерными жестами.
Среди прихожан раздалось протестующие выкрики и сердитое рычание, похожее на рык диких зверей. Кулаки были подняты, чтобы разбить этот богохульный рот. Но мулла спокойно поднял руки. Он улыбнулся Ахмеду, как мог бы улыбнуться лепечущему ребенку.
– Вы – э—э… совершенно уверены в своих словах, друг мой? – спросил он с мягкой иронией. – Вы, наверное, знаете, что лучшая молитва – большее счастье, чем честный, мужественный труд?
– Я знаю! – ответил Ахмед. На мгновение он почувствовал себя неловко под пристальным взглядом собеседника. Тень тревожного предчувствия закралась в его душу. Что-то, похожее на благоговейный трепет, на страх коснулось его позвоночника холодными, как глина, руками, и он устыдился этого чувства страха; заговорил более высокомерно и громко, чтобы скрыть этот страх от самого себя: – У меня иное вероисповедание! Что я захочу, то я и беру! Моя награда здесь, на земле! Рай – это мечта глупца, а Аллах – не что иное, как миф!..
Тут уж разгневанные верующие гурьбой устремились к нему. И снова мулла удержал их жестом своих худых рук. Он окликнул Ахмеда, который уже собирался было покинуть мечеть.
– Я буду здесь, мой младший брат, – сказал он, – и буду ждать тебя – на случай, если тебе понадобится моя помощь – помощь моей веры в Аллаха и Пророка!
– По-твоему я… нуждаюсь в тебе? – передразнил его Ахмед. – Никогда, о священнейший мулла! Хайах! Может ли лягушка простудиться?
И, звонко рассмеявшись, он вышел из мечети.
Десять минут спустя он добрался до жилища, которое делил с Хасаном эль-Торком по прозвищу Птица Зла, своим приятелем и партнером. Это было неприметное, уютное, тайное маленькое жилище на дне заброшенного колодца, и там он разложил свою добычу перед восхищёнными глазами своего друга и напарника.
– Воспрянь духом, Птица Зла! Я принес домой самое настоящее сокровище. Это волшебная веревка. С её помощью я смогу взбираться на самые высокие стены.
– Я так люблю тебя, мой маленький масляный шарик, моя маленькая веточка душистого сассафраса! – пробормотал Птица Зла, лаская Ахмеда по щеке своими старческими руками, похожими на птичьи когти. – Никогда еще мир не знал такого ловкого вора, как ты! Ты сможешь украсть еду у человека изо рта, и его желудок ничего не узнает! Золото, драгоценности, кошельки… – он поиграл добычей. – и эта волшебная веревка! Ведь в будущем для нас не будет ни слишком высокой стены, ни слишком крутой крыши, ни … – он запнулся, прервал себя, поскольку заброшенный колодец находился всего в двух шагах от внешних ворот Багдада.
Громкий голос приказал надзирателю открыть его:
– Откройте настежь ворота Багдада! Мы – носильщики, приносящие драгоценные вещи для украшения дворца! Ибо завтра придут женихи, чтобы посвататься к нашей принцессе Зобейде – дочери великого халифа!
* * *
Халифом в те дни был Ширзад Кемаль-уд-Доула, двенадцатый и величайший из славной династии Газневидов. Господином он был от Багдада до Стамбула и от Мекки до Иерусалима. Его гордость была безмерна, и, помимо арабского титула халифа, он гордился такими великолепными турецкими титулами, как: Имам-уль-ислам – Первосвященник всех мусульман; Алем Пенах – Убежище мира; Хункиар – Убийца людей; Али-Осман Падишахи – Король потомков Османа; Шахин Шахи Алем – Царь Владык Вселенной; Худавендигар – Привязанный к Богу; Шахин Шахи Мовазем ве-Хиллула – Верховный Царь Царей и тень Бога на Земле.
Принцесса Зобейда была его дочерью, его единственным ребенком и наследницей его великого королевства.
Что же касается красоты, очарования и непревзойденного колдовства Зобейды, то сквозь серые, качающиеся столетия до нас дошла целая дюжина сообщений на эту тему. Чтобы поверить им всем, нужно было бы прийти к выводу, что по сравнению с ней Елена Троянская, ради лица которой были спущены на воду тысячи греческих кораблей, была всего лишь гадким утенком. Поэтому мы выбираем, с полным обдумыванием, самый простой и наименее витиеватый из современных ей рассказов, содержащихся в письме некоего Абу-ль Хамеда эль-Андалуси, арабского поэта, который, посещая по своим причинам молодую рабыню-черкешенку в гареме халифа, случайно раздвинул парчовый занавес, отделявший комнату рабыни от покоев принцессы, заглянул внутрь и увидел там принцессу. Он описал свои впечатления в письме брату-поэту в Дамаск; и написал он буквально следующее: