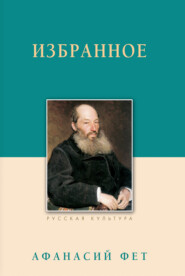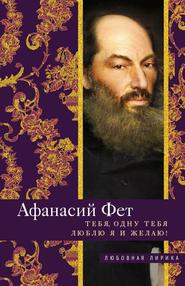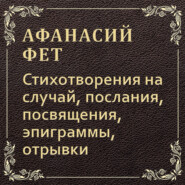По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ранние годы моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«1790 года декабря 11-го взяли штурмом город Измаил, где убит сея книги хозяин, товарищ и однокашец мой приятель Иван Кузьмич секунд-майор Воинов, а я в ногу ранен».
Литературные произведения начала 19-го века внесены в эту книгу другою рукой не позже 20-х годов, и выбор их явно указывает на наклонность к романтизму.
О, какое наслаждение испытывал я, повторяя сладостные стихи великого поэта, и с каким восторгом слушал меня добрый дядя, конечно не подозревавший, что память его любимца, столь верная по отношению к рифмованной речи, – прорванный мешок по отношению ко всему другому.
Вместе с поступлением к учителю во мне стало возникать уклонение от женского влияния вообще. Великолепно вышитый кружевными мотыльками откидной воротничок кругом шеи, составлявший, быть может, в праздник гордость матери, скорее унижал меня, чем доставлял удовольствие; и хотя при проходе моем через лакейскую ученый и бывалый Илья Афанасьевич, видя меня в таком воскресном наряде, и восклицал: «Господин Шеншин, пожалуйте ручку», – мне хотелось быть настоящим Шеншиным, а не с отложным воротничком. Меня тянуло взлезть на гумне на Старостину лошадь и проехать на ней несколько шагов, просунув ноги вместо слишком длинных стремян в их путлища. Я старался в 12 часов, когда староста, приехав в людскую к обеду, ставил заседланную лошадь на крытый ворок, отвязать последнюю и ездить на ней кругом стен, насколько возможно шибче. При этом я однажды чуть не лишился жизни, или по крайней мере не изувечился в конец. С большого ворка в боковые отделы вели калитки настолько высокие, что самый большой человек или рослая лошадь могли проходить беспрепятственно. Смерив издали калитку глазами и считая ее достаточно высокой для проезда верхом с наклоненной головой, а разогнал и, пригнувшись насколько возможно, направил ее в калитку. Вдруг с сильнейшим ударом по левой брови и придавленный сверху к седлу, скатываюсь через круп лошади, как смятый мешок, на землю. Некоторое время я не мог даже сообразить, где я; но затем, невзирая на страшную боль в пояснице, для сокрытия следов приключения, взял лошадь за повод и привязал к комяге, откуда увел ее. Увидавши мой совершенно черный левый глаз, отец спросил: «Что это у тебя?»
– Должно быть, дурная муха укусила, – подхватил Василий Васильевич.
Святая неделя прошла совершенно сухая, хотя и холодная. Отца не было дома, и я отпросился у матери с Василием Васильевичем к заутрене в церковь.
Так как каретная четверка была с отцом в отъезде, нам запрягли в рессорные дрожки пару разгонных, и по приказанию матери мы отправились с вечера в дом Ал. Н. Зыбиной, откуда должны были вместе с хозяйкой идти в церковь.
Несмотря на предстоящие часа через три разговены, у Зыбиных по установленному порядку подали великолепный ужин на зеленом конопляном масле.
В доме всюду перед образами были зажжены лампадки, и наконец раздался громогласный благовест к заутрене.
В церкви среди толпы народа я узнавал и своих крестьян и прифрантившихся дворовых. Много было густых приглаженных волос уже не белых, а от старости с сильно зеленоватым оттенком. При сравнительно дальнем переходе по холодной ночи в церковь, нагретую дыханием толпы и сотнями горящих свечей, дело не обошлось без неожиданной иллюминации. Задремавший старик поджег сзади другому скобку, и близко стоящие бабы стали шлепать горящего по затылку, с криком: «Дедушка, горишь! Дедушка, горишь!»
Помню, что я очень гордился новою синей суконной чуйкой на сером калмыцком меху. Но гордиться мне долго не пришлось. Почувствовав себя дурно, я шатаясь пошел к выходу, ловя за руку не знаю как очутившегося тут Сергея Мартыновича. На паперти я упал, и не помню, как меня доставили в темный и совершенно умолкнувший дом Зыбиных. Тут Сергей Мартынович сдал меня в передней на руки какой-то женщине, которая привела меня в просторную полутемную комнату, впечатление обстановки, хотя и мгновенное, осталось в памяти моей навсегда. За широкой кроватью в углу, при мерцании нескольких лампад, выступал широкий ряд образов в богатых ризах, а в самом углу сиял огромный золотой венчик, кажется, образа Спасителя в натуральную величину.
Женщина раздела меня до белья и положила на широкую кровать, и я в ту же минуту заснул. Проснувшись при полном свете дня, я узнал, что комната моего отдыха была спальня Ал. Н. Зыбиной.
На другой день Светлого праздника к нам в дом и затем на деревню приносили образа и появлялись как говорили, «священники», хотя священник был один, даже без дьякона. Тем не менее церковнослужителей с их семьями, при многочисленности последних, набиралось человек двадцать, начиная с попадьи и дьячихи, которых можно было узнать по головам, тщательно завязанным шелковыми косынками с двойным отливом. Усердные люди (оброчники), все без шапок, приносили образа, в видах неприкосновенности святыни, на полотенцах.
В числе провожатых причта неизменно появлялся седоватый и всклокоченный, с разбегающимися во рту, как у старой лошади, и осклабленными зубами, огромного роста, дурак Кондраш. Несмотря на то, что добродушные глаза его ничего не выражали, кроме совершенного бессмыслия, он непривычному взгляду внушал ужас и отвращение. Но во исполнение непреложного обычая, всем, начиная с матери нашей, доводилось целоваться со всеми, до Кондраша включительно.
Между тем в зале для духовенства накрывался стол, и подавался полный обед из пяти блюд. Перед обедом отец, раздавая семинаристам, одетым в новые нанковые чуйки и певшим в общем праздничном хоре, по гривенничку, расспрашивал их родителей об успехах молодежи.
– Проходит философию, – отвечал вопрошаемый, – а вот в конце года надеется поступить в богословие.
– Это хорошо, – замечал отец, – знание за плечами не тянет.
В конце недели перед домом расставлялись для крестьян обоего пола столы с пасхами, куличами, красными яйцами, ветчиной и караваями, причем подносилось по стакану водки.
Не могу забыть 140-летнего старика Ипата, который, поддерживая левою рукою дрожащую правую, до капли выпивал поднесенный ему стакан. Этого Ипата, взятого по бездетности и бесприютности из Скворчего в число новосельских дворовых, я знал уже более года. Бывало, сидит он без шапки, с густыми, зелеными, как свежая пенька, волосами, на солнышке, на углу на камне, и плетет лапоть. Каждый раз, проходя мимо старика, я испытывал желание заговорить с ним, расспрашивая о Петре Великом, которого он называл «царем батюшкой Петром Алексеевичем», прибавляя: «В ту пору был я еще парень молодой».
На вопрос мой: «Ипат, да сколько же тебе лет?» старик постоянно отвечал: «Родился коли – не знаю, крестился коли – не упомню, а умру коли – не ведаю».
Заговорив о долголетии крестьянина моей памяти, останавливаюсь на семействе дебелой и красивой кормилицы сестры Анюты, приходившей в свободное от уроков время ко мне с ребенком в классную. Это бесспорно была весьма добродушная женщина; тем не менее ее выхоленная и массивная самоуверенность вызывали с моей стороны всякого рода выходки. Так, например, зная лично ее мужа, Якова, я, обучая ее молитве Господней, натвердил вместо: «яко на небеси» – «Яков на небеси».
Конечно, всякая невежливость с моей стороны к кому-либо из прислуги не прошла бы мне даром, но я нашел способ дразнить кормилицу Афимью безнаказанно. Глядя пристально на ее белое и румяное лицо и ходя вслед за нею, я убедительно и настойчиво твердил: «Кордова, Кордова». Долго «Кордова» выслушивала мой географический урок, но наконец, вероятно, поняв, в чем дело, с неменьшей выразительностью проговорила: «И ни на что-то вы непохоже затвердили Кордова да Кордова». Убедившись, что стрела дошла по назначению, я тотчас же перешел на дружелюбный тон. Деда и прадеда ее мужа я знал лично, но, несмотря на это, часто беседовал о них с кормилицею. Оба старика уже не работали в поле, но в воскресный день я часто видал их проходящими через барский двор по направлению к церкви. Дед мужа Афимьи был сильно поседевший старик с простриженным на голове гуменцом и ходил к обедне без палки. Ему считали от роду 90 лет, но удивительно, что у его отца в густых и черных волосах не было ни одной сединки. Высокого роста, сухощавый, он проходил, опираясь на длинную палку, причем имел вид человека, сломленного в поясе на правую сторону. Афимья с улыбкой говорила: «Прадедушка рос, рос, да и покачнулся». Ему считали 120 лет. Хорошо помню, что когда дед Афимьи давно уже был снесен на кладбище, покривившийся на сторону отец его, в чистом долгополом зипуне и с длинной палкой, продолжал проходить мимо окон к обедне версты за четыре.
Заговорив о стариках, скажу несколько слов о своих Шеншиных, хотя бы о Петре Афанасьевиче Шеншине, бывшем воеводе и ездившем, как я слыхал, на лошадях, кованных серебром.
Очевидно, коренным его местопребыванием было село Клейменово, где близ церкви на белом надгробном камне написано: «Петр Афанасьевич Шеншин, скончался в 1709 году».
Согласно обычаю предоставлять меньшим членам семейства главную усадьбу, Клейменово, по смерти Петра Афанасьевича, перешло к меньшому его сыну Василию Петровичу, тогда как старшему Небфиту Петровичу досталась «Добрая Вода», где последний, выстроив дом и женившись на Анне Ивановне Прянишниковой, стал отцом трех сыновей: Афанасия, Петра И Ивана, и трех дочерей: Прасковьи, Любови и Анны. О дяде Петре Неофитовиче я уже говорил, но необходимо вспомнить и дядю Ивана Неофитовича, личность которого могла бы в руках искусного психолога явиться драгоценным образом.
Я не раз слыхал, что в свое время Иван Неофитович был одним из лучших танцоров на балах Московского Благородного Собрания. Он прекрасно владел французским языком и всю жизнь до глубокой старости с зеленым зонтиком на глазах продолжал читать «Journal des Debats. Высокого роста, но и когда я его помню, человеком лет 45-ти, он уже был нетверд на ногах и ходил, как люди сильно выпившие, зигзагами.
Входя в дом, он непременно останавливался у первого зеркала и, доставая гребенку из кармана, расчесывал свои жидкие бакенбарды и копром подымал с затылка волосы. В родственных домах, как наш и дяди Петра Неофитовича, он, усевшись на диван, тотчас засыпал, либо, потребовав тетрадку белой бумаги, правильно разрывал ее на осьмушки, которые исписывал буквами необыкновенной величины.
При такой работе он всегда пачкал пальцы в чернилах и, кончив бесконечные приказы старосте, кричал: «малый!» и требовал мыла и таз с рукомойником. Такое омовение рук совершалось им по нескольку раз в день, и когда он высоко засучивал рукава сюртука и сорочки, можно было на левой руке прочесть крупные пороховые буквы имени _Варвара_. Конечно, я не смел ни его, ни кого-либо спросить о возникновении виденного мною имени, но впоследствии мне привелось услыхать, что имя это принадлежало одной даме, дочери которой было дано полуимя Шеншиной: Шинская, и которой до ее замужества Иван Неофитович помогал.
Как-то услыхав, что Иван Неофитович женится, я, конечно, не обратил на этот слух никакого внимания.
Однажды я только что сошел с качелей, на которых попавшая за мною на очередь горничная кричала благим матом отчасти от страха высоких размахов, отчасти от чувствительных ударов, наносимых ей по поясу веревкою игривых качальщиков. Такие удары назывались «напупчиками» или «огурчиками». В толпу ожидающих очереди прибежала горничная и сказала мне: «Мамаша приказала вас звать в хоромы; приехала новая тетенька».
Боявшийся старых тетенек Любви и Анны Неофитовен, постоянно мучивших меня экзаменными вопросами, я неохотно шел и к новой тетеньке. Но новая тетенька Варвара Ивановна, расцеловавшая меня, оказалась молодою и румяною дамою со свежим цветом лица под белою бастовою шляпкой, и распространявшей сильный и сладкий запах духов. Она с первого же раза обозвала меня «Альфонсом», какое имя я сохранил в устах ее на всю жизнь.
Приехавший вместе с нею дядя не переменил для молодой жены своих привычек. Сказавши несколько слов с моей матерью, он тут же в гостиной задремал на кресле. Помню, что через год после этого на мезонине Добро-Водского дома, я заглядывал в люльку моей кузины Любиньки, а через год или два родилась ее сестра Анюта, Мужского потомства у дяди Ивана Неофитовича не было.
* * *
Если соседи по временам приезжали к нам в гости на несколько часов, то Вера Александровна Борисова, о которой я выше только слегка упомянул, приезжала к матери и гащевала иногда по целым месяцам. Располагалась она на ночлег против кровати матери на длинном диване, и тут я старался пробраться в спальню и упросить бабушку (подобно детям Борисовых, мы звали Веру Александровну бабушкой) рассказать сказочку, которые рассказывать она была великая мастерица. Понятно, что и мать наша, по случаю частых и долговременных отъездов отца, не менее нас рада была гашению доброй старушки. По середам и пятницам бабушка кушала рыбу, а потому дело иногда бывало не без приключений. На половине карася или окуня Вера Александровна вдруг жалобным голосом застонет: «Опять я, жадная, подавилась! Ох, голубчик Афоня, подойди, ударь меня хорошенько по затылку!»
Стараясь решительно помочь беде, я угощал бабушку сильным ударом по шее, за которым следовало восклицание: «Ох, спасибо, выскочила!», а с другой стороны возвышенный окрик матери: «Ты как смеешь так бить бабушку?»
Но бабушке побои были, видно, не в диковинку. Однокашник, сослуживец, а впоследствии и родственник мой Иван Петрович Борисов рассказывал, как, бывало, в Фатьянове приваженные ходить к бабушке всею детскою толпою за лакомством, они иногда приходили к ней во флигель в неурочное время, повторяя настойчиво: «Бабушка, дай варенья!» Никакие резоны с ее стороны не принимались, и толпа с возгласом: «Бабушка, дай варенья!» все ближе и ближе подступала к старухе, и когда та, выведенная из терпенья, кричала: «Ах вы мерзкие, пошли домой!» толпа ребятишек хватала ее за руки, за волосы, валила на пол и колотила, продолжая кричать: «Бабушка, дай варенья!»
Однажды, когда мать до слез огорчалась моею неспособностью к наукам, бабушка сказала: «И-и, матушка, Елизавета Петровна, что вы убиваетесь заблаговременно! Вырастут, все будут знать, что им нужно».
Сколько раз в жизни вспоминал я это мудрое изречение.
Кроме бабушки Веры Александровны, у матери часто за столом появлялись мелкопоместные дворяне из Подбелевца, бывавшие точно так же и в других домах нашего круга: у Мансуровых, Борисовых и Зыбиных. Отец, в свою очередь, был скорее приветлив, чем недоступен и горд. Так, длиннобородые, в скобку и долгополые хлебные покупатели, мценские купцы Свечкин и Иноземцев, славившиеся даже в Москве своим пивом, нередко сидели у нас за обеденным столом, и я живо помню, как краснолицый Иноземцев, раздувая пенистый стакан пива, пропускал его сквозь усы, на которых оставались нападавшие в стакан мухи. Помню я за нашим столом и толстого заседателя Болотова в мундирном сюртуке с красным воротником и старенького его письмоводителя Луку Афанасьевича.
Великим постом отец любил ботвинью с свежепросоленною домашней осетриной, но особенно гордился хорошим приготовлением крошева (рубленой кислой капусты). Помню, однажды под влиянием любви к крошеву отец спросил подлившего себе в тарелку квасу письмоводителя: «А что, Лука Афанасьевич, хороша ли капустка?»
– Этой «копусткой» можно похвалиться.
– Что ты говоришь?
– Этой «копусткой» ангели святые на небесах питаются.
– Да ведь ты же еще не ел?
– Сейчас будем спотреблять.
Невзирая на такое радушие, отец весьма недоброжелательно смотрел на мелких подбелевских посетительниц, вероятно, избегая распространения нежелательных сплетен.
Из этого остракизма изъята была небогатая дворянская чета, появлявшаяся из Подбелевца иногда пешком, иногда в тележке. В последнем случае сидевший на козлах маленький и худощавый в синем фраке с медными пуговицами Константин Гаврилович Лыков (Впоследствии я слыхал, что эти Лыковы происходили от князей Лыковых). никогда не подвозил свою дебелую супругу Веру Алексеевну к крыльцу дома, а сдавал лошадь у ворот конного завода конюхам. Оттуда оба супруга пешком пробирались к крыльцу, и я иначе не помню Веру Алексеевну в праздничные дни, как в белом чепчике с раздувающимися оборками.
Сколько раз впоследствии она говорила мне, что в год моего рождения ей было двадцать лет от роду. Посещения Веры Алексеевны, отличавшейся благословенным аппетитом, были до того часты, что у всех моих братьев и сестер она считалась домашним человеком, так как незаметно приходила за четыре или пять верст и к вечеру летней порой возвращалась домой.
Вероятно, в подражание Борисовым отец приказал домашним мастерам сделать тоже детскую коляску на рессорах, но только двуместную без козел. За дышло коляска эта возилась легко, и я не знал лучшего наслаждения, чем, подражая самому рьяному коню, возить эту коляску. Особенно любил я катать в ней кого-либо. Так, однажды, посадивши сестру Любиньку, я свез ее под горку к риге и там на гладком току возил сестру с возможно большею быстротою. О прочности коляски может свидетельствовать то, что бывший в немилости у отца дворовый Филимон, желая показать мне ловкость лакеев, кричавших кучеру:
«пошел!» и затем уже на ходу вскакивавших на запятки, догонял меня и прыгал на ходу на заднюю ось. Раза два эта проделка ему удавалась; но никому в голову не приходило, что шкворень под переднею осью не закреплен. Вдруг при новом прыжке Филимона колясочка, откинувшись назад, соскочила с передней оси и затем, падая на всем бегу передом, сбросила хохотавшую девочку на землю.
Литературные произведения начала 19-го века внесены в эту книгу другою рукой не позже 20-х годов, и выбор их явно указывает на наклонность к романтизму.
О, какое наслаждение испытывал я, повторяя сладостные стихи великого поэта, и с каким восторгом слушал меня добрый дядя, конечно не подозревавший, что память его любимца, столь верная по отношению к рифмованной речи, – прорванный мешок по отношению ко всему другому.
Вместе с поступлением к учителю во мне стало возникать уклонение от женского влияния вообще. Великолепно вышитый кружевными мотыльками откидной воротничок кругом шеи, составлявший, быть может, в праздник гордость матери, скорее унижал меня, чем доставлял удовольствие; и хотя при проходе моем через лакейскую ученый и бывалый Илья Афанасьевич, видя меня в таком воскресном наряде, и восклицал: «Господин Шеншин, пожалуйте ручку», – мне хотелось быть настоящим Шеншиным, а не с отложным воротничком. Меня тянуло взлезть на гумне на Старостину лошадь и проехать на ней несколько шагов, просунув ноги вместо слишком длинных стремян в их путлища. Я старался в 12 часов, когда староста, приехав в людскую к обеду, ставил заседланную лошадь на крытый ворок, отвязать последнюю и ездить на ней кругом стен, насколько возможно шибче. При этом я однажды чуть не лишился жизни, или по крайней мере не изувечился в конец. С большого ворка в боковые отделы вели калитки настолько высокие, что самый большой человек или рослая лошадь могли проходить беспрепятственно. Смерив издали калитку глазами и считая ее достаточно высокой для проезда верхом с наклоненной головой, а разогнал и, пригнувшись насколько возможно, направил ее в калитку. Вдруг с сильнейшим ударом по левой брови и придавленный сверху к седлу, скатываюсь через круп лошади, как смятый мешок, на землю. Некоторое время я не мог даже сообразить, где я; но затем, невзирая на страшную боль в пояснице, для сокрытия следов приключения, взял лошадь за повод и привязал к комяге, откуда увел ее. Увидавши мой совершенно черный левый глаз, отец спросил: «Что это у тебя?»
– Должно быть, дурная муха укусила, – подхватил Василий Васильевич.
Святая неделя прошла совершенно сухая, хотя и холодная. Отца не было дома, и я отпросился у матери с Василием Васильевичем к заутрене в церковь.
Так как каретная четверка была с отцом в отъезде, нам запрягли в рессорные дрожки пару разгонных, и по приказанию матери мы отправились с вечера в дом Ал. Н. Зыбиной, откуда должны были вместе с хозяйкой идти в церковь.
Несмотря на предстоящие часа через три разговены, у Зыбиных по установленному порядку подали великолепный ужин на зеленом конопляном масле.
В доме всюду перед образами были зажжены лампадки, и наконец раздался громогласный благовест к заутрене.
В церкви среди толпы народа я узнавал и своих крестьян и прифрантившихся дворовых. Много было густых приглаженных волос уже не белых, а от старости с сильно зеленоватым оттенком. При сравнительно дальнем переходе по холодной ночи в церковь, нагретую дыханием толпы и сотнями горящих свечей, дело не обошлось без неожиданной иллюминации. Задремавший старик поджег сзади другому скобку, и близко стоящие бабы стали шлепать горящего по затылку, с криком: «Дедушка, горишь! Дедушка, горишь!»
Помню, что я очень гордился новою синей суконной чуйкой на сером калмыцком меху. Но гордиться мне долго не пришлось. Почувствовав себя дурно, я шатаясь пошел к выходу, ловя за руку не знаю как очутившегося тут Сергея Мартыновича. На паперти я упал, и не помню, как меня доставили в темный и совершенно умолкнувший дом Зыбиных. Тут Сергей Мартынович сдал меня в передней на руки какой-то женщине, которая привела меня в просторную полутемную комнату, впечатление обстановки, хотя и мгновенное, осталось в памяти моей навсегда. За широкой кроватью в углу, при мерцании нескольких лампад, выступал широкий ряд образов в богатых ризах, а в самом углу сиял огромный золотой венчик, кажется, образа Спасителя в натуральную величину.
Женщина раздела меня до белья и положила на широкую кровать, и я в ту же минуту заснул. Проснувшись при полном свете дня, я узнал, что комната моего отдыха была спальня Ал. Н. Зыбиной.
На другой день Светлого праздника к нам в дом и затем на деревню приносили образа и появлялись как говорили, «священники», хотя священник был один, даже без дьякона. Тем не менее церковнослужителей с их семьями, при многочисленности последних, набиралось человек двадцать, начиная с попадьи и дьячихи, которых можно было узнать по головам, тщательно завязанным шелковыми косынками с двойным отливом. Усердные люди (оброчники), все без шапок, приносили образа, в видах неприкосновенности святыни, на полотенцах.
В числе провожатых причта неизменно появлялся седоватый и всклокоченный, с разбегающимися во рту, как у старой лошади, и осклабленными зубами, огромного роста, дурак Кондраш. Несмотря на то, что добродушные глаза его ничего не выражали, кроме совершенного бессмыслия, он непривычному взгляду внушал ужас и отвращение. Но во исполнение непреложного обычая, всем, начиная с матери нашей, доводилось целоваться со всеми, до Кондраша включительно.
Между тем в зале для духовенства накрывался стол, и подавался полный обед из пяти блюд. Перед обедом отец, раздавая семинаристам, одетым в новые нанковые чуйки и певшим в общем праздничном хоре, по гривенничку, расспрашивал их родителей об успехах молодежи.
– Проходит философию, – отвечал вопрошаемый, – а вот в конце года надеется поступить в богословие.
– Это хорошо, – замечал отец, – знание за плечами не тянет.
В конце недели перед домом расставлялись для крестьян обоего пола столы с пасхами, куличами, красными яйцами, ветчиной и караваями, причем подносилось по стакану водки.
Не могу забыть 140-летнего старика Ипата, который, поддерживая левою рукою дрожащую правую, до капли выпивал поднесенный ему стакан. Этого Ипата, взятого по бездетности и бесприютности из Скворчего в число новосельских дворовых, я знал уже более года. Бывало, сидит он без шапки, с густыми, зелеными, как свежая пенька, волосами, на солнышке, на углу на камне, и плетет лапоть. Каждый раз, проходя мимо старика, я испытывал желание заговорить с ним, расспрашивая о Петре Великом, которого он называл «царем батюшкой Петром Алексеевичем», прибавляя: «В ту пору был я еще парень молодой».
На вопрос мой: «Ипат, да сколько же тебе лет?» старик постоянно отвечал: «Родился коли – не знаю, крестился коли – не упомню, а умру коли – не ведаю».
Заговорив о долголетии крестьянина моей памяти, останавливаюсь на семействе дебелой и красивой кормилицы сестры Анюты, приходившей в свободное от уроков время ко мне с ребенком в классную. Это бесспорно была весьма добродушная женщина; тем не менее ее выхоленная и массивная самоуверенность вызывали с моей стороны всякого рода выходки. Так, например, зная лично ее мужа, Якова, я, обучая ее молитве Господней, натвердил вместо: «яко на небеси» – «Яков на небеси».
Конечно, всякая невежливость с моей стороны к кому-либо из прислуги не прошла бы мне даром, но я нашел способ дразнить кормилицу Афимью безнаказанно. Глядя пристально на ее белое и румяное лицо и ходя вслед за нею, я убедительно и настойчиво твердил: «Кордова, Кордова». Долго «Кордова» выслушивала мой географический урок, но наконец, вероятно, поняв, в чем дело, с неменьшей выразительностью проговорила: «И ни на что-то вы непохоже затвердили Кордова да Кордова». Убедившись, что стрела дошла по назначению, я тотчас же перешел на дружелюбный тон. Деда и прадеда ее мужа я знал лично, но, несмотря на это, часто беседовал о них с кормилицею. Оба старика уже не работали в поле, но в воскресный день я часто видал их проходящими через барский двор по направлению к церкви. Дед мужа Афимьи был сильно поседевший старик с простриженным на голове гуменцом и ходил к обедне без палки. Ему считали от роду 90 лет, но удивительно, что у его отца в густых и черных волосах не было ни одной сединки. Высокого роста, сухощавый, он проходил, опираясь на длинную палку, причем имел вид человека, сломленного в поясе на правую сторону. Афимья с улыбкой говорила: «Прадедушка рос, рос, да и покачнулся». Ему считали 120 лет. Хорошо помню, что когда дед Афимьи давно уже был снесен на кладбище, покривившийся на сторону отец его, в чистом долгополом зипуне и с длинной палкой, продолжал проходить мимо окон к обедне версты за четыре.
Заговорив о стариках, скажу несколько слов о своих Шеншиных, хотя бы о Петре Афанасьевиче Шеншине, бывшем воеводе и ездившем, как я слыхал, на лошадях, кованных серебром.
Очевидно, коренным его местопребыванием было село Клейменово, где близ церкви на белом надгробном камне написано: «Петр Афанасьевич Шеншин, скончался в 1709 году».
Согласно обычаю предоставлять меньшим членам семейства главную усадьбу, Клейменово, по смерти Петра Афанасьевича, перешло к меньшому его сыну Василию Петровичу, тогда как старшему Небфиту Петровичу досталась «Добрая Вода», где последний, выстроив дом и женившись на Анне Ивановне Прянишниковой, стал отцом трех сыновей: Афанасия, Петра И Ивана, и трех дочерей: Прасковьи, Любови и Анны. О дяде Петре Неофитовиче я уже говорил, но необходимо вспомнить и дядю Ивана Неофитовича, личность которого могла бы в руках искусного психолога явиться драгоценным образом.
Я не раз слыхал, что в свое время Иван Неофитович был одним из лучших танцоров на балах Московского Благородного Собрания. Он прекрасно владел французским языком и всю жизнь до глубокой старости с зеленым зонтиком на глазах продолжал читать «Journal des Debats. Высокого роста, но и когда я его помню, человеком лет 45-ти, он уже был нетверд на ногах и ходил, как люди сильно выпившие, зигзагами.
Входя в дом, он непременно останавливался у первого зеркала и, доставая гребенку из кармана, расчесывал свои жидкие бакенбарды и копром подымал с затылка волосы. В родственных домах, как наш и дяди Петра Неофитовича, он, усевшись на диван, тотчас засыпал, либо, потребовав тетрадку белой бумаги, правильно разрывал ее на осьмушки, которые исписывал буквами необыкновенной величины.
При такой работе он всегда пачкал пальцы в чернилах и, кончив бесконечные приказы старосте, кричал: «малый!» и требовал мыла и таз с рукомойником. Такое омовение рук совершалось им по нескольку раз в день, и когда он высоко засучивал рукава сюртука и сорочки, можно было на левой руке прочесть крупные пороховые буквы имени _Варвара_. Конечно, я не смел ни его, ни кого-либо спросить о возникновении виденного мною имени, но впоследствии мне привелось услыхать, что имя это принадлежало одной даме, дочери которой было дано полуимя Шеншиной: Шинская, и которой до ее замужества Иван Неофитович помогал.
Как-то услыхав, что Иван Неофитович женится, я, конечно, не обратил на этот слух никакого внимания.
Однажды я только что сошел с качелей, на которых попавшая за мною на очередь горничная кричала благим матом отчасти от страха высоких размахов, отчасти от чувствительных ударов, наносимых ей по поясу веревкою игривых качальщиков. Такие удары назывались «напупчиками» или «огурчиками». В толпу ожидающих очереди прибежала горничная и сказала мне: «Мамаша приказала вас звать в хоромы; приехала новая тетенька».
Боявшийся старых тетенек Любви и Анны Неофитовен, постоянно мучивших меня экзаменными вопросами, я неохотно шел и к новой тетеньке. Но новая тетенька Варвара Ивановна, расцеловавшая меня, оказалась молодою и румяною дамою со свежим цветом лица под белою бастовою шляпкой, и распространявшей сильный и сладкий запах духов. Она с первого же раза обозвала меня «Альфонсом», какое имя я сохранил в устах ее на всю жизнь.
Приехавший вместе с нею дядя не переменил для молодой жены своих привычек. Сказавши несколько слов с моей матерью, он тут же в гостиной задремал на кресле. Помню, что через год после этого на мезонине Добро-Водского дома, я заглядывал в люльку моей кузины Любиньки, а через год или два родилась ее сестра Анюта, Мужского потомства у дяди Ивана Неофитовича не было.
* * *
Если соседи по временам приезжали к нам в гости на несколько часов, то Вера Александровна Борисова, о которой я выше только слегка упомянул, приезжала к матери и гащевала иногда по целым месяцам. Располагалась она на ночлег против кровати матери на длинном диване, и тут я старался пробраться в спальню и упросить бабушку (подобно детям Борисовых, мы звали Веру Александровну бабушкой) рассказать сказочку, которые рассказывать она была великая мастерица. Понятно, что и мать наша, по случаю частых и долговременных отъездов отца, не менее нас рада была гашению доброй старушки. По середам и пятницам бабушка кушала рыбу, а потому дело иногда бывало не без приключений. На половине карася или окуня Вера Александровна вдруг жалобным голосом застонет: «Опять я, жадная, подавилась! Ох, голубчик Афоня, подойди, ударь меня хорошенько по затылку!»
Стараясь решительно помочь беде, я угощал бабушку сильным ударом по шее, за которым следовало восклицание: «Ох, спасибо, выскочила!», а с другой стороны возвышенный окрик матери: «Ты как смеешь так бить бабушку?»
Но бабушке побои были, видно, не в диковинку. Однокашник, сослуживец, а впоследствии и родственник мой Иван Петрович Борисов рассказывал, как, бывало, в Фатьянове приваженные ходить к бабушке всею детскою толпою за лакомством, они иногда приходили к ней во флигель в неурочное время, повторяя настойчиво: «Бабушка, дай варенья!» Никакие резоны с ее стороны не принимались, и толпа с возгласом: «Бабушка, дай варенья!» все ближе и ближе подступала к старухе, и когда та, выведенная из терпенья, кричала: «Ах вы мерзкие, пошли домой!» толпа ребятишек хватала ее за руки, за волосы, валила на пол и колотила, продолжая кричать: «Бабушка, дай варенья!»
Однажды, когда мать до слез огорчалась моею неспособностью к наукам, бабушка сказала: «И-и, матушка, Елизавета Петровна, что вы убиваетесь заблаговременно! Вырастут, все будут знать, что им нужно».
Сколько раз в жизни вспоминал я это мудрое изречение.
Кроме бабушки Веры Александровны, у матери часто за столом появлялись мелкопоместные дворяне из Подбелевца, бывавшие точно так же и в других домах нашего круга: у Мансуровых, Борисовых и Зыбиных. Отец, в свою очередь, был скорее приветлив, чем недоступен и горд. Так, длиннобородые, в скобку и долгополые хлебные покупатели, мценские купцы Свечкин и Иноземцев, славившиеся даже в Москве своим пивом, нередко сидели у нас за обеденным столом, и я живо помню, как краснолицый Иноземцев, раздувая пенистый стакан пива, пропускал его сквозь усы, на которых оставались нападавшие в стакан мухи. Помню я за нашим столом и толстого заседателя Болотова в мундирном сюртуке с красным воротником и старенького его письмоводителя Луку Афанасьевича.
Великим постом отец любил ботвинью с свежепросоленною домашней осетриной, но особенно гордился хорошим приготовлением крошева (рубленой кислой капусты). Помню, однажды под влиянием любви к крошеву отец спросил подлившего себе в тарелку квасу письмоводителя: «А что, Лука Афанасьевич, хороша ли капустка?»
– Этой «копусткой» можно похвалиться.
– Что ты говоришь?
– Этой «копусткой» ангели святые на небесах питаются.
– Да ведь ты же еще не ел?
– Сейчас будем спотреблять.
Невзирая на такое радушие, отец весьма недоброжелательно смотрел на мелких подбелевских посетительниц, вероятно, избегая распространения нежелательных сплетен.
Из этого остракизма изъята была небогатая дворянская чета, появлявшаяся из Подбелевца иногда пешком, иногда в тележке. В последнем случае сидевший на козлах маленький и худощавый в синем фраке с медными пуговицами Константин Гаврилович Лыков (Впоследствии я слыхал, что эти Лыковы происходили от князей Лыковых). никогда не подвозил свою дебелую супругу Веру Алексеевну к крыльцу дома, а сдавал лошадь у ворот конного завода конюхам. Оттуда оба супруга пешком пробирались к крыльцу, и я иначе не помню Веру Алексеевну в праздничные дни, как в белом чепчике с раздувающимися оборками.
Сколько раз впоследствии она говорила мне, что в год моего рождения ей было двадцать лет от роду. Посещения Веры Алексеевны, отличавшейся благословенным аппетитом, были до того часты, что у всех моих братьев и сестер она считалась домашним человеком, так как незаметно приходила за четыре или пять верст и к вечеру летней порой возвращалась домой.
Вероятно, в подражание Борисовым отец приказал домашним мастерам сделать тоже детскую коляску на рессорах, но только двуместную без козел. За дышло коляска эта возилась легко, и я не знал лучшего наслаждения, чем, подражая самому рьяному коню, возить эту коляску. Особенно любил я катать в ней кого-либо. Так, однажды, посадивши сестру Любиньку, я свез ее под горку к риге и там на гладком току возил сестру с возможно большею быстротою. О прочности коляски может свидетельствовать то, что бывший в немилости у отца дворовый Филимон, желая показать мне ловкость лакеев, кричавших кучеру:
«пошел!» и затем уже на ходу вскакивавших на запятки, догонял меня и прыгал на ходу на заднюю ось. Раза два эта проделка ему удавалась; но никому в голову не приходило, что шкворень под переднею осью не закреплен. Вдруг при новом прыжке Филимона колясочка, откинувшись назад, соскочила с передней оси и затем, падая на всем бегу передом, сбросила хохотавшую девочку на землю.