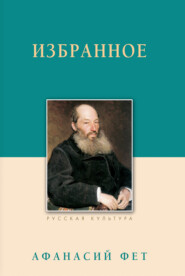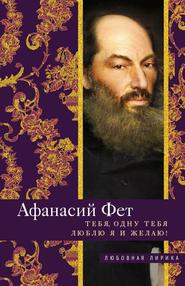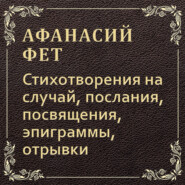По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Папаша приказали узнать, угодно ли вам будет ехать в город.
– Да, поеду; только я сам сейчас скажу ему об этом.
– Барин, батюшка! – прибавил Аристарх, как-то подсвистывая, – осмелюсь вашей милости доложить, просите папашу, чтоб приказали заложить в пролетку тройку молодых вороных. Вся тройка добрая-с, а левая, батюшка, пристяжная, только весной заездили, может, изволите помнить Змейку – утешительница-с! Барин их никому ни шагу. Да намедни Сидор прикащик без них, по погрешности, захотел испробовать, к куме съездил, сказывал: уважила-с. Со двора-то, как изволите ехать, так, известное дело, надо уж по батюшкиному потрафлять-с: вожжу в кольцо, а изволите за лес заехать – как угодно-с. Извольте приказать вожжу-то под третий поперечник – так и завьется. Вот изволите увидать-с, как завьется.
Я уж вышел из комнаты, а Аристарх все еще толковал: «Ей-богу, завьется; еще как завьется-то!»
– Поди, – сказал батюшка слуге, – прикажи заложить тройку молодых в пролетку. Да ты, пожалуйста, – прибавил он, обращаясь ко мне, – не гони пристяжных в карьер: это ни к чему не ведет, да и лошадям вредно. А как по-вашему? Гони; испортил лошадь – давай другую. А где их взять, других-то? Я это говорю вам, молодым людям, затем, что сам на свете много кувыркался, да в куст головою попадал. Ну, бог с тобой, – сказал батюшка, когда подали лошадей. – Да заверни на станцию, нет ли писем или ведомостей.
Хотя я за лесом и не поддавал вожжей под третий поперечник, но коренной под конец так разошелся, что пристяжные заскакали. В городе на площади Змейка чуть не сбила с головы у продавца доски с горячими калачами. Какая пестрота! К собору нельзя подъехать. Толстый квартальный, в полной форме, обливаясь потом, никак не может привести в порядок экипажей. Деревенские кучера еще не привыкли к городской дисциплине. Один форейтор въехал в выносы другого, и, вместо того чтоб распутаться и исправить беду, они хотят решить дело единоборством. Посреди площади навалены горы лубков, ободья и деревянной посуды. Это необходимое; но зато вокруг все шатры наполнены предметами роскоши для мужика и баб. Там не такой товар, какой по деревням меняют ходебщики на тряпки да на яйца: тут все, как быть, настоящее. Но собственно торг еще не начинался. Только к «достойной» ударили. Еще слышно, как галки, возвращаясь с полей, перекликаются на главах, а дай-ко народ хлынет от обедни, так хоть из пушек пали – ничего не слыхать. С трудом протолкался я до правого клироса. Дам было много; особенно бросилась мне в глаза одна в легкой белой шляпке. Она одета была с большим вкусом и держалась просто и грациозно. Подвигаюсь вперед – знакомое лицо. Всматриваюсь – точно, это Шмакова, но так изменилась, что действительно с первого раза не узнаешь. Щеки заметно впали; нет прежнего летучего румянца: он как-то огрубел и сосредоточился под глазами. Сначала я думал ей поклониться, но, видя, с каким жаром она молится, не захотел мешать. По окончании обедни началась давка. Я подошел к Софье Васильевне и, с помощью ее лакея, помог выбраться на паперть.
– Благодарю вас, – сказала Шмакова, вздохнув свободней, – я так устала!
– Вы, верно, к нам? – спросил я.
– Нет, я сейчас же еду домой. Извините меня перед тетушкой, но это точно выше сил моих. Я еще не оправилась от болезни.
– В таком случае зачем же вы тревожились, ехали? Это вам может повредить.
– Я хотела молиться, – сказала Шмакова почти шепотом и как бы невольно.
Я был молод; в груди у меня стало жарко, как от лишнего стакана вина. Я быстро схватил руку Шмаковой и, взглянув ей в лицо, сказал патетическим тоном: «Кузина! мне глубоко жаль вас! Вы больны, вы страдаете, вы несчастны!» Шмакова вспыхнула. Кроткие темно-голубые и еще прекрасные глаза ее гордо сверкнули. Быстро высвободив свою руку, она перебила мою фразу.
– Надеюсь, кузен! – сказала она, – что в словах ваших не будет ничего обидного ни для моего самолюбия, ни для людей мне близких.
«Так вот ты какова!» – подумал я и довольно неловко переменил разговор.
– Прощайте, – сказала Шмакова, садясь в карету. – Кланяйтесь дома.
Я тоже просил передать мой поклон тетушке, а кланяться Аполлону у меня не достало духа. «Вот, – подумал я, садясь на дрожки, – правду говорит пословица: свои собаки грызутся, чужая не мешайся. Пошел на станцию!» Змейка завилась. «Давно ли почта пришла?» – спросил я смотрителя. «В девять часов пришла легкая, а тяжелую ждем каждую минуту». – «Письма есть?» – «Есть одно; газет еще не было». «Что же вы меня держите?» – раздался звонкий, свежий голос из-за перегородки. «Извольте повременить какой-нибудь часок. И рад бы душою, да все в разгоне». «Кто это?» – спросил я. «Какой-то офицер. Вот подорожная», – отвечал смотритель шепотом. Я взглянул на подорожную. От Москвы до Меджибожа… уланского полка корнету Мореву с будущим. «Какой это Морев? – подумал я, – уж не сын ли генерала Морева – Петруша, которого я видел в корпусе и с которым в последнее время почти подружился?» «Я буду жаловаться», – раздался тот же голос, и в показавшемся в дверях офицере я с радостью узнал Петрушу. «Ковалев! какими судьбами?» – «Я хотел тебе сделать тот же вопрос». – «Да вот, как видишь, еду в полк, да никак не доеду. Отец поручил заехать в деревню, поверить старосту. Там почти месяц просидел, а тут еще лошадей не дают. Однако, чего ты тут стоишь? Войди, по крайней мере, в комнату».
VII. Рассказ Морева
– Садись-ка, брат, вот тут, на диван, – сказал Морев, когда мы вошли в комнату проезжающих. – Не хочешь ли сигару, а я не могу сидеть: надоело. Судя по твоему костюму, тебя можно поздравить. Кончил курс, поступаешь на службу?
– Кончить-то кончил и думаю на службу, да еще не решился куда.
– Эх, брат Ковалев! иди в уланы. Полно купаться в чернилах-то. Ступай к нам в полк. Славный полк, пишет товарищ. Офицеры охотники до лошадей, и у всех славные кони. Соседство, говорит, хорошее, а про охоту и спрашивать нечего. Куропаток мальчишки палками бьют.
Я посмотрел на яркий околыш фуражки Морева.
– Ну, что раздумывать? вели укладываться, да и марш!
Я почти обещал поступить в полк, где служил Морев, но просил его написать мне подробно обо всем. – Позволь же мне, – сказал Петруша, – спросить бутылку шампанского в честь новобранца.
– Нет, брат, – отвечал я, – деревня наша в пяти верстах отсюда, и пока лошадей тебе выкормят, поедем к нам обедать, а после обеда я тебя сейчас лее доставлю на станцию.
– Вот уж этого не могу! – возразил Морев. – Хоть меня и звали в корпусе подбитым ветерком, а все-таки дружба дружбой, а служба службой. И так опоздал. Из деревни уехать было нельзя. Отец сказал бы, что я ничего там не сделал, а я и то даром просидел.
– Да что ж ты там делал?
– Как что? Говорят тебе, поверял старосту. Ты хотя немного помнишь моего отца? Привыкнув к дисциплине, он не терпит возражений. Когда я собирался в полк, отец позвал меня и говорит: «Заезжай в деревню. Я знаю, там беспорядок. Ты уже не ребенок – в твои лета я ротой командовал; так поверь старосту и донеси мне, как нашел хозяйство». Делать было нечего. Сел на тройку, да и марш. Приезжаю, братец, в деревню. Старинный сад зарос. Огромный дом в самом жалком виде. Развалившаяся крыша поросла мохом, мебель оборвана. Старинное аббатство, да и квит. Кое-как устроился в кабинете. В других домах на чердаке галки да голуби, а тут вечер настанет – как бы ты думал? совы! да какой концерт подняли, просто ужас нагнали. Однако ж я главного-то не забываю. Сел поутру в старое волтеровское кресло да и говорю: позовите старосту. Является небольшой мужичок. Кафтанишка на нем худой, обшлага кожей обшиты. Маленькие глазки так и бегают по сторонам; рыжая борода двумя клиньями; в руках две палочки с надрезанными крестиками. «Ты староста?» – «Я, батюшка, Петр Петрович». – «Ну что, как у тебя дела идут?» – «Слава богу, батюшка Петр Петрович, во што». – «Как слава богу? Батюшка говорит, что ты уж два года ничего не присылал». – «Времена-то, батюшка Петр Петрович, какие подошли! Ты ишь какие времена-то, во што!» – повторил староста, взглянув в окно. На дворе был чудный летний день и больше ничего. «Ну, хорошо, – сказал я, – времена временами, а счеты ты принес?» – «Как же, батюшка Петр Петрович, – отвечал староста, указывая на палочки, – на все надо резонт – во што». – «Да что ж это такое?» – «Бирки, батюшка Петр Петрович. Мы люди темные, так бирками занимаемся – во што». – «Ну, говори, а я буду записывать, а там сочтемся». Синий ноготь на большом пальце правой руки у старосты зашагал по бирке из метки в метку, язык залепетал, а раздвоенные концы рыжей бороды зашевелились, опускаясь вверх и вниз, как хвост у трясогузки. «На Бутырском верху семь копень, два крестца, три снопа, без малого, с осьминой. На Разбегае с крестцом сам-треть как есть, на Чудиловом…» Но он с первых слов так меня озадачил, что, делая вид, будто слушаю и записываю, я с отчаяния начал писать: «Пошел козел в огород; чигирики-чок чигири». Мученье мое продолжалось, по крайней мере час. Наконец терпение лопнуло. «Ну, брат, хорошо. Мы после с тобою кончим. Ступай». На другой день плут староста пришел уже незваный и принес не две бирки, а штук десять. «Что тебе нужно?» – «Как же, батюшка Петр Петровичу знамо, пришел к вашей милости счесться. На все надо резонт – во што». Опять та же потеха, и я опять прогнал его. На третий день он притащил чуть не целый воз бирок. Я как только увидал его: «Вон! – говорю, – не смей ко мне приходить, пока не позову». – «Как вашей милости угодно, – говорит, – я, чтоб часом инарал-то наш не осерчал – во што». С тех пор староста уж не приходил незваный. Что делать? Писать к отцу рано, уезжать рано – узнает; скука, да и только!
– Да неужели ты все это время проскучал один?
– То-то и есть, что нет. Судьба сжалилась надо мной и послала такие развлечения, о которых мне и не снилось.
– Что ж такое?
– Чтоб хоть сколько-нибудь очистить совесть перед отцом, я вздумал хотя поле объехать. «Ванька! скажи, чтоб мне и старосте оседлали лошадей; я поеду по полям». Целое утро протаскались мы по межам и кустам и наконец выехали на торную дорогу. Все это так мне надоело, что я хотел было повернуть домой. Вдруг слышу, за нами кто-то едет. Оглядываюсь – какой-то толстый господин на беговых дрожках. Поравнявшись с нами, он поехал шагом и начал попеременно смотреть то на меня, то на старосту. «Позвольте вас спросить, – сказал он наконец, – вы не из Дюкова?» – «Да». – «Не сынок ли генерала Морева? Честь имею рекомендоваться: сосед ваш Орест Савич Морквин». – «Очень приятно…» – «Я, батюшка Петр Петрович, человек простой, живу по-старинному, а потому покорнейше прошу, для первого знакомства, откушать. Изволите видеть, вон за плотиной белый дом. Стол накрыт; милости прошу». Сначала я извинялся, но ничего не помогло. Оказалась ни дать ни взять Крылова басня: «Хозяин музыку любил – и пригласил соседа певчих слушать». Явились певчие. «Становись!» – Скомандовал Орест Савич. Певчие разделились на два хора. Басы и тенора в одну кучу, альты и дисканты в другую. «Вы, батюшка Петр Петрович, еще не слыхивали таких певчих, – заметил, улыбаясь, Морквин, – у меня ведь поют со спором». Сначала я не понял, что значит петь со спором, но за первым блюдом загадка объяснилась. Запели: «Забелелися во чистом поле каменны палаты». Кажется бы, просто-не тут-то было. Басы запели: «Забелелися», вслед за тем дисканты: «Забелелися», басы еще громче: «Забелелися»; дисканты еще визгливей: «Забелелися… забелелися, забелелися, забелелися, забелелися», и наконец все вместе: «каменны палаты». Подобным образом спеты были чуть не все известные русские песни, и эффект выходил такой, что я чуть со смеху не подавился куском телятины. Но это, братец, еще не все. Я забыл тебе рассказать главное. Большая дорога у меня под самым окном. На другой или на третий день сижу я в кабинете и, со скуки, смотрю на проезжающий люд. Вдруг откуда ни возьмись, по направлению к уездному городу, несется лихая тройка буланых, в ямских хомутах. Большая новая телега, кучер в синем ярмяке; шляпа в зеленом чехле, перчатки зеленые, вожжи красные. Я растворил окно. Телега поехала тише. Смотрю: в задке, на высоком переплете, сидит господин в желтых перчатках, в красной александрийской рубашке с косым воротом, обшитым золотым галуном. На голове черный бархатный берет, в глазу стеклышко. «Ванька! Ванька! спроси, не знает ли кто-нибудь в доме, кто это проехал?» Через несколько минут Ванька воротился. «Сосед, – говорит, – Шмаков-с». «Какой это Шмаков? – подумал я, – уже не Аполлон ли?» В том же экипаже и в том же самом костюме Шмаков, по крайней мере, раза два в неделю показывался мне и, кажется, нарочно приказывал ехать шагом мимо окон. Признаюсь, он меня заинтересовал, и мне захотелось узнать о нем какие-нибудь подробности. Но как? В Москве я коротко познакомился с тобой в последнее время, а Шмакова знал мало. Да, может быть, это еще и не тот. Ехать знакомиться не хотелось. И тут судьба помогла мне самым неожиданным и странным образом. Ночной крик сов до того мне надоел, что я приказал по частям разбирать и снова крыть крышу. Как-то поутру выхожу посмотреть на рабочих, вижу – по дороге едут крытые дрожки парой. Сначала я не обратил на них особенного внимания – мало ли кто ездит по большой дороге! Но потом смотрю: дрожки забирают влево, к дому, и наконец остановились у крыльца. Вертлявая женщина, на лицо лет тридцати, в сером бурнусе, с палевой шляпкой на затылке, выскочила из экипажа. Темно-карие глаза и черные брови придавали ее несколько рябоватому, лицу энергический и бойкий вид. Темно-русые, пышные волосы разделены были спереди косым пробором и большая половина раздела, над самым лбом, ухарски приподымалась кверху, как у мужчины. «Петр Петрович Морев?» – спросила она, протянув ко мне руку в серой лайковой перчатке. «К вашим услугам». – «Уездная акушерка Палагея Николаевна. Прошу полюбить». – «Позвольте узнать, чем могу служить вам?» – «О! о! какой церемонный! Прикажите-ка дать лошадям овса, да пойдемте в комнату; тут жара невыносимая». С этим словом она побежала на крыльцо. Я последовал за ней. «Пожалуйста, голубчик, не сердитесь! Я знаю все, что делается в уезде, и проведала про вашу скуку. Была здесь по соседству у помещицы; дай, говорю, заеду поболтать. Ведь вы еще не обедали?» – «Нет; кажется, довольно рано!» – «Тем лучше, поболтаем, пообедаем вместе, лошади отдохнут, и с богом». Сначала я был озадачен развязностью Палагеи Николаевны, но, оправившись, предложил ей снять шляпку. Сбросив шляпку на стол, она стала перед зеркалом, без всякой видимой нужды размотала свою толстую, блестящую косу, полюбовалась ею, кинула на меня плутовской взгляд в зеркало и снова уложила косу на затылке. «Теперь я к вашим услугам, – сказала Палагея Николаевна, обращаясь ко мне с улыбкой. – Где ваша комната? Давайте курить и болтать». За болтовней у нее дело не стало. Усевшись в кабинете у растворенного окна, мы благодаря незастенчивости моей гостьи в полчаса стали друзьями. «Смерть люблю молодых людей! – вскричала Палагея Николаевна, неистово целуя меня в щеку, – милашка! – прибавила она, – усики только пробиваются, и сердечко должно быть доброе». – «Палагея Николаевна! – сказал я, – уж если пошло на откровенность, скажите, отчего вы не выйдете замуж?» – «Замуж? Нет, голубчик, этот совет побереги для других. В тридцать восемь лет худо замуж выходить. Надо за старого – а они такие гадкие, изверги». В эту минуту красный Господин, со стеклышком в глазу, поравнявшись на тройке буланых с домом, поехал шагом. Заметив его, Палагея Николаевна отвернулась. «Палагея Николаевна! Скажите, пожалуйста, кто этот чудак? Говорили мне, Шмаков, да как его зовут?» – «Как его зовут? – с жаром подхватила Палагея Николаевна, – изверг, низший, самый низкий человек – вот как его зовут. Хоть и величают его Аполлоном Павлычем, а он просто Змей Горыныч. Если б я, кроме него, никого мужчин не видала, и тогда скорее бы живая в гроб легла, чем замуж вышла». – «Да чем же он так заслужил ваш гнев, Палагея Николавна?» – «Чем заслужил гнев? Ведь он жену-то, милочку-то, агнца-то невинного погубил, зарезал. Вы этого не знаете? не слыхали? Я вам расскажу. Женился-то он не на ней, а на большом имении. А у нее мать-то в Москве, знать, не промах: не дала ничего. Сначала он к жене подольщался: «Сонечка, такая-сякая, пиши к матери», разломал старый дом, выстроил большой флигель, а против середины двора затеял барские хоромы. Да как узнал, что не получит имения – как бы вы думали? возненавидел жену-то. Я, говорит, вас (все «вы» ей говорит)… я, говорит, вас просто ненавижу. Вы, говорит, мне свет завязали. А между тем дело-то подошло к тому, что и за мной пора посылать. Как бы вы подумали! ведь не хотел, не хотел, изверг-то. «А мне, говорит, какое дело?» Да уж мать-то его, скупая, но добрая старушка, на свой счет меня в дом взяла. Господи! чего только я там не насмотрелась! Погляжу, бывало, погляжу на нее – любит его, голубушка, без памяти. Уж чего-чего не делала! Время, знаете, пришло, уж не до нарядов. Одевается, бедняжка, волосы заплетает, завивает… Ростом-то он весь с воробья. Что ж бы вы думали? театральные башмаки без подошв из Москвы потихоньку выписывала, чтоб ниже ростом казаться: ничего не помогло. Заладил одно: «я вас ненавижу», да и только. Да если б вы знали, какие каверзы выдумывал! У матери она не привыкла к бойким лошадям. Старуха, знать, их боялась, дочь тоже. Это ему и на руку. Велит в крохотную варшавскую колясочку заложить четверку жеребцов. Лошади со стойки на стены лезут. Возьмет ее в этом положении-то, посадит, сам сядет и крикнет «пошел!». Лошади от крыльца понесут, жена в обморок, а он заливается со смеху. А не то в дождливую погоду велит ей одеться в белое платье, обуть белые атласные башмаки, и марш гулять. Выведет ее, бедняжку, на двор, сам на лошадь верхом и норовит всю забрызгать. Обдаст всю с ног до головы грязью и рад, хохочет… Пришло время родов… Признаюсь, я сама испугалась. И простудил-то он ее, и напугал-то – умирает женщина, да и только. Потребовала мужа. Приходит сахар медович. «Что вам, – говорит, – нужно?» – «Аполлон, – говорит она, – друг мой, я умираю! Прости меня великодушно! Я, – говорит, – была твоим горем, не умела сделать тебя счастливым. Я одна виновата. Но я знаю, ты великодушен. Прости меня!» Уж так она его просила, так умоляла, что даже я не вытерпела – разревелась.
– Ну, а он-то что? – перебил я Палагею Николаевну.
– Он? – продолжала рассказчица, – как с гуся вода. Повернулся, расправил скобку – только и видели. Как-то бог помог: родилась дочь. Мать рада; старуха Шмакова земли под собой не слышит, так и сидит над внучкой. Смотрю, на третий день и противный-то приходит к жене. «А вы, – говорит, – не умерли? Ведь вы обещались умереть…»
На этом месте рассказа Морева в дверях показался станционный смотритель и объявил, что лошади готовы.
– А уложились?
– Совсем, – прибавил смотритель.
– Ну, прощай, брат Ковалев, – сказал Морев, пожимая мне руку. – Жаль, не досказал я тебе про Палагею Николавну. Ну, да еще увидимся. Приезжай поскорей.
– Ты не забудь, Петруша, напиши, не поленись, да поподробнее.
Колокольчик зазвенел, и Морев покатил за ворота.
VIII. Чернецов
Когда я объявил батюшке о намерении своем определиться в военную службу, он сказал: «Что ж? Прекрасно! Где хочешь служи. Ведь не я буду служить, а ты. Чем скорее, тем, по-моему, лучше». Матушки в Комнате не было: возражать было некому, но это не помешало батюшке с жаром вооружиться против невидимого противника. «Да нет, – продолжал он, – я не из числа ахал! Сынка жаль? Нет, нет, это не моя метода любить; да таки-нет, нет, это не моя метода. По-моему, поезжай хоть в Америку, да будь счастлив». Добрый батюшка! Поэзия жизни для него не существовала. Мечтать, предчувствовать было не его делом. Казалось, он всю жизнь развивал одну тему: «по-моему, это справедливо; я этого непременно хочу – и это непременно будет». Постоянным девизом его была пословица: «Что посеешь, то пожнешь». Много, неотступно трудолюбиво сеял он на веку, но много ли пожал и каких плодов? Зато чуткое сердце матери вещим голосом отозвалось в последнее время. «Друг мой! – говорила она, взяв меня за руки и со слезами глядя мне в лицо, – дай мне в последний раз налюбоваться на тебя; дай еще раз расчешу твои густые волосы. Сердце чует, что расстаюсь с тобой навеки».
Так прошло недель пять. Получив письмо от Морева, я прочел его батюшке.
– А за куропатками-то советую тебе пореже. Служба, служба и служба, а эти куропаточники-то – дешевенький народ. Нынче куропатки, завтра куропатки, toujours perdrix[39], а потом что? Нет, нет… Надо тебе, однако ж, до отправления, к сестре съездить. Пусть они будут передо мной виноваты. Вот племянница-то в двух шагах мимо дома проехала. Что? нездорова? Сиди дома. Это непристойно – попросту сказать. А я вот пошлю лошадей на подставу. Сядешь в коляску, откатаешь – ан дело-то и сделано. Да ведь нет, нет! с людьми так жить нельзя.
Часу в одиннадцатом утра въехал я на широкий двор Мизинцева. Ничего не могу узнать. На месте старого дома новый, довольно большой флигель. Кругом какие-то домики, как будто сердясь, отворачиваются друг от друга, а против середины двора стоит, подавляя всю мелкую братию величием затей, недостроенный деревянный колизей. В окнах, как и следует у колизея, рам нет, и по узким доскам, которыми поперек забиты эти окна, можно предполагать, что деревянное чудовище уже предоставлено собственной судьбе. «Куда тут ехать?» – спросил я какого-то малого. «А вот налево-то, к новому фигурю. Там барин живет, а в большом-от старая барыня да молодая».
Аполлона я застал в комнате, которая представляла все что угодно: спальню, кабинет, приемную, гостиную. Стены и кровать завешаны дорогими варшавскими коврами. На зеленом столике серебряный рукомойник с таким же прибором. На стенах, в золотых рамах, литографии двусмысленного содержания и достоинства. Затейливая мебель, рабочий стол и на нем бумаги, помада, счетные книги, фиксатуар, духи, романы, рижские пурки, овес, пшеница; на окнах гречиха и ячмень.
Хозяин встретил меня в красной рубахе, точь-в-точь, как рассказывал Морев. Широкие зеленые шаровары в сапоги. Вокруг голой, растолстевшей шеи эластический шнурок и на нем стеклышко.
– Ба, ба, ба! Какими судьбами? – запищал Аполлон, завидя меня. – Насилу завернул в нашу сторону!
– И то ненадолго, – отвечал я, – приехал взглянуть на тебя, поклониться тетушке, да и в полк. – Поздравляю, поздравляю!
– Позволь мне переодеться. Хочу сейчас же идти к тетушке.
– Не ходи, братец, лучше…
– Да, поеду; только я сам сейчас скажу ему об этом.
– Барин, батюшка! – прибавил Аристарх, как-то подсвистывая, – осмелюсь вашей милости доложить, просите папашу, чтоб приказали заложить в пролетку тройку молодых вороных. Вся тройка добрая-с, а левая, батюшка, пристяжная, только весной заездили, может, изволите помнить Змейку – утешительница-с! Барин их никому ни шагу. Да намедни Сидор прикащик без них, по погрешности, захотел испробовать, к куме съездил, сказывал: уважила-с. Со двора-то, как изволите ехать, так, известное дело, надо уж по батюшкиному потрафлять-с: вожжу в кольцо, а изволите за лес заехать – как угодно-с. Извольте приказать вожжу-то под третий поперечник – так и завьется. Вот изволите увидать-с, как завьется.
Я уж вышел из комнаты, а Аристарх все еще толковал: «Ей-богу, завьется; еще как завьется-то!»
– Поди, – сказал батюшка слуге, – прикажи заложить тройку молодых в пролетку. Да ты, пожалуйста, – прибавил он, обращаясь ко мне, – не гони пристяжных в карьер: это ни к чему не ведет, да и лошадям вредно. А как по-вашему? Гони; испортил лошадь – давай другую. А где их взять, других-то? Я это говорю вам, молодым людям, затем, что сам на свете много кувыркался, да в куст головою попадал. Ну, бог с тобой, – сказал батюшка, когда подали лошадей. – Да заверни на станцию, нет ли писем или ведомостей.
Хотя я за лесом и не поддавал вожжей под третий поперечник, но коренной под конец так разошелся, что пристяжные заскакали. В городе на площади Змейка чуть не сбила с головы у продавца доски с горячими калачами. Какая пестрота! К собору нельзя подъехать. Толстый квартальный, в полной форме, обливаясь потом, никак не может привести в порядок экипажей. Деревенские кучера еще не привыкли к городской дисциплине. Один форейтор въехал в выносы другого, и, вместо того чтоб распутаться и исправить беду, они хотят решить дело единоборством. Посреди площади навалены горы лубков, ободья и деревянной посуды. Это необходимое; но зато вокруг все шатры наполнены предметами роскоши для мужика и баб. Там не такой товар, какой по деревням меняют ходебщики на тряпки да на яйца: тут все, как быть, настоящее. Но собственно торг еще не начинался. Только к «достойной» ударили. Еще слышно, как галки, возвращаясь с полей, перекликаются на главах, а дай-ко народ хлынет от обедни, так хоть из пушек пали – ничего не слыхать. С трудом протолкался я до правого клироса. Дам было много; особенно бросилась мне в глаза одна в легкой белой шляпке. Она одета была с большим вкусом и держалась просто и грациозно. Подвигаюсь вперед – знакомое лицо. Всматриваюсь – точно, это Шмакова, но так изменилась, что действительно с первого раза не узнаешь. Щеки заметно впали; нет прежнего летучего румянца: он как-то огрубел и сосредоточился под глазами. Сначала я думал ей поклониться, но, видя, с каким жаром она молится, не захотел мешать. По окончании обедни началась давка. Я подошел к Софье Васильевне и, с помощью ее лакея, помог выбраться на паперть.
– Благодарю вас, – сказала Шмакова, вздохнув свободней, – я так устала!
– Вы, верно, к нам? – спросил я.
– Нет, я сейчас же еду домой. Извините меня перед тетушкой, но это точно выше сил моих. Я еще не оправилась от болезни.
– В таком случае зачем же вы тревожились, ехали? Это вам может повредить.
– Я хотела молиться, – сказала Шмакова почти шепотом и как бы невольно.
Я был молод; в груди у меня стало жарко, как от лишнего стакана вина. Я быстро схватил руку Шмаковой и, взглянув ей в лицо, сказал патетическим тоном: «Кузина! мне глубоко жаль вас! Вы больны, вы страдаете, вы несчастны!» Шмакова вспыхнула. Кроткие темно-голубые и еще прекрасные глаза ее гордо сверкнули. Быстро высвободив свою руку, она перебила мою фразу.
– Надеюсь, кузен! – сказала она, – что в словах ваших не будет ничего обидного ни для моего самолюбия, ни для людей мне близких.
«Так вот ты какова!» – подумал я и довольно неловко переменил разговор.
– Прощайте, – сказала Шмакова, садясь в карету. – Кланяйтесь дома.
Я тоже просил передать мой поклон тетушке, а кланяться Аполлону у меня не достало духа. «Вот, – подумал я, садясь на дрожки, – правду говорит пословица: свои собаки грызутся, чужая не мешайся. Пошел на станцию!» Змейка завилась. «Давно ли почта пришла?» – спросил я смотрителя. «В девять часов пришла легкая, а тяжелую ждем каждую минуту». – «Письма есть?» – «Есть одно; газет еще не было». «Что же вы меня держите?» – раздался звонкий, свежий голос из-за перегородки. «Извольте повременить какой-нибудь часок. И рад бы душою, да все в разгоне». «Кто это?» – спросил я. «Какой-то офицер. Вот подорожная», – отвечал смотритель шепотом. Я взглянул на подорожную. От Москвы до Меджибожа… уланского полка корнету Мореву с будущим. «Какой это Морев? – подумал я, – уж не сын ли генерала Морева – Петруша, которого я видел в корпусе и с которым в последнее время почти подружился?» «Я буду жаловаться», – раздался тот же голос, и в показавшемся в дверях офицере я с радостью узнал Петрушу. «Ковалев! какими судьбами?» – «Я хотел тебе сделать тот же вопрос». – «Да вот, как видишь, еду в полк, да никак не доеду. Отец поручил заехать в деревню, поверить старосту. Там почти месяц просидел, а тут еще лошадей не дают. Однако, чего ты тут стоишь? Войди, по крайней мере, в комнату».
VII. Рассказ Морева
– Садись-ка, брат, вот тут, на диван, – сказал Морев, когда мы вошли в комнату проезжающих. – Не хочешь ли сигару, а я не могу сидеть: надоело. Судя по твоему костюму, тебя можно поздравить. Кончил курс, поступаешь на службу?
– Кончить-то кончил и думаю на службу, да еще не решился куда.
– Эх, брат Ковалев! иди в уланы. Полно купаться в чернилах-то. Ступай к нам в полк. Славный полк, пишет товарищ. Офицеры охотники до лошадей, и у всех славные кони. Соседство, говорит, хорошее, а про охоту и спрашивать нечего. Куропаток мальчишки палками бьют.
Я посмотрел на яркий околыш фуражки Морева.
– Ну, что раздумывать? вели укладываться, да и марш!
Я почти обещал поступить в полк, где служил Морев, но просил его написать мне подробно обо всем. – Позволь же мне, – сказал Петруша, – спросить бутылку шампанского в честь новобранца.
– Нет, брат, – отвечал я, – деревня наша в пяти верстах отсюда, и пока лошадей тебе выкормят, поедем к нам обедать, а после обеда я тебя сейчас лее доставлю на станцию.
– Вот уж этого не могу! – возразил Морев. – Хоть меня и звали в корпусе подбитым ветерком, а все-таки дружба дружбой, а служба службой. И так опоздал. Из деревни уехать было нельзя. Отец сказал бы, что я ничего там не сделал, а я и то даром просидел.
– Да что ж ты там делал?
– Как что? Говорят тебе, поверял старосту. Ты хотя немного помнишь моего отца? Привыкнув к дисциплине, он не терпит возражений. Когда я собирался в полк, отец позвал меня и говорит: «Заезжай в деревню. Я знаю, там беспорядок. Ты уже не ребенок – в твои лета я ротой командовал; так поверь старосту и донеси мне, как нашел хозяйство». Делать было нечего. Сел на тройку, да и марш. Приезжаю, братец, в деревню. Старинный сад зарос. Огромный дом в самом жалком виде. Развалившаяся крыша поросла мохом, мебель оборвана. Старинное аббатство, да и квит. Кое-как устроился в кабинете. В других домах на чердаке галки да голуби, а тут вечер настанет – как бы ты думал? совы! да какой концерт подняли, просто ужас нагнали. Однако ж я главного-то не забываю. Сел поутру в старое волтеровское кресло да и говорю: позовите старосту. Является небольшой мужичок. Кафтанишка на нем худой, обшлага кожей обшиты. Маленькие глазки так и бегают по сторонам; рыжая борода двумя клиньями; в руках две палочки с надрезанными крестиками. «Ты староста?» – «Я, батюшка, Петр Петрович». – «Ну что, как у тебя дела идут?» – «Слава богу, батюшка Петр Петрович, во што». – «Как слава богу? Батюшка говорит, что ты уж два года ничего не присылал». – «Времена-то, батюшка Петр Петрович, какие подошли! Ты ишь какие времена-то, во што!» – повторил староста, взглянув в окно. На дворе был чудный летний день и больше ничего. «Ну, хорошо, – сказал я, – времена временами, а счеты ты принес?» – «Как же, батюшка Петр Петрович, – отвечал староста, указывая на палочки, – на все надо резонт – во што». – «Да что ж это такое?» – «Бирки, батюшка Петр Петрович. Мы люди темные, так бирками занимаемся – во што». – «Ну, говори, а я буду записывать, а там сочтемся». Синий ноготь на большом пальце правой руки у старосты зашагал по бирке из метки в метку, язык залепетал, а раздвоенные концы рыжей бороды зашевелились, опускаясь вверх и вниз, как хвост у трясогузки. «На Бутырском верху семь копень, два крестца, три снопа, без малого, с осьминой. На Разбегае с крестцом сам-треть как есть, на Чудиловом…» Но он с первых слов так меня озадачил, что, делая вид, будто слушаю и записываю, я с отчаяния начал писать: «Пошел козел в огород; чигирики-чок чигири». Мученье мое продолжалось, по крайней мере час. Наконец терпение лопнуло. «Ну, брат, хорошо. Мы после с тобою кончим. Ступай». На другой день плут староста пришел уже незваный и принес не две бирки, а штук десять. «Что тебе нужно?» – «Как же, батюшка Петр Петровичу знамо, пришел к вашей милости счесться. На все надо резонт – во што». Опять та же потеха, и я опять прогнал его. На третий день он притащил чуть не целый воз бирок. Я как только увидал его: «Вон! – говорю, – не смей ко мне приходить, пока не позову». – «Как вашей милости угодно, – говорит, – я, чтоб часом инарал-то наш не осерчал – во што». С тех пор староста уж не приходил незваный. Что делать? Писать к отцу рано, уезжать рано – узнает; скука, да и только!
– Да неужели ты все это время проскучал один?
– То-то и есть, что нет. Судьба сжалилась надо мной и послала такие развлечения, о которых мне и не снилось.
– Что ж такое?
– Чтоб хоть сколько-нибудь очистить совесть перед отцом, я вздумал хотя поле объехать. «Ванька! скажи, чтоб мне и старосте оседлали лошадей; я поеду по полям». Целое утро протаскались мы по межам и кустам и наконец выехали на торную дорогу. Все это так мне надоело, что я хотел было повернуть домой. Вдруг слышу, за нами кто-то едет. Оглядываюсь – какой-то толстый господин на беговых дрожках. Поравнявшись с нами, он поехал шагом и начал попеременно смотреть то на меня, то на старосту. «Позвольте вас спросить, – сказал он наконец, – вы не из Дюкова?» – «Да». – «Не сынок ли генерала Морева? Честь имею рекомендоваться: сосед ваш Орест Савич Морквин». – «Очень приятно…» – «Я, батюшка Петр Петрович, человек простой, живу по-старинному, а потому покорнейше прошу, для первого знакомства, откушать. Изволите видеть, вон за плотиной белый дом. Стол накрыт; милости прошу». Сначала я извинялся, но ничего не помогло. Оказалась ни дать ни взять Крылова басня: «Хозяин музыку любил – и пригласил соседа певчих слушать». Явились певчие. «Становись!» – Скомандовал Орест Савич. Певчие разделились на два хора. Басы и тенора в одну кучу, альты и дисканты в другую. «Вы, батюшка Петр Петрович, еще не слыхивали таких певчих, – заметил, улыбаясь, Морквин, – у меня ведь поют со спором». Сначала я не понял, что значит петь со спором, но за первым блюдом загадка объяснилась. Запели: «Забелелися во чистом поле каменны палаты». Кажется бы, просто-не тут-то было. Басы запели: «Забелелися», вслед за тем дисканты: «Забелелися», басы еще громче: «Забелелися»; дисканты еще визгливей: «Забелелися… забелелися, забелелися, забелелися, забелелися», и наконец все вместе: «каменны палаты». Подобным образом спеты были чуть не все известные русские песни, и эффект выходил такой, что я чуть со смеху не подавился куском телятины. Но это, братец, еще не все. Я забыл тебе рассказать главное. Большая дорога у меня под самым окном. На другой или на третий день сижу я в кабинете и, со скуки, смотрю на проезжающий люд. Вдруг откуда ни возьмись, по направлению к уездному городу, несется лихая тройка буланых, в ямских хомутах. Большая новая телега, кучер в синем ярмяке; шляпа в зеленом чехле, перчатки зеленые, вожжи красные. Я растворил окно. Телега поехала тише. Смотрю: в задке, на высоком переплете, сидит господин в желтых перчатках, в красной александрийской рубашке с косым воротом, обшитым золотым галуном. На голове черный бархатный берет, в глазу стеклышко. «Ванька! Ванька! спроси, не знает ли кто-нибудь в доме, кто это проехал?» Через несколько минут Ванька воротился. «Сосед, – говорит, – Шмаков-с». «Какой это Шмаков? – подумал я, – уже не Аполлон ли?» В том же экипаже и в том же самом костюме Шмаков, по крайней мере, раза два в неделю показывался мне и, кажется, нарочно приказывал ехать шагом мимо окон. Признаюсь, он меня заинтересовал, и мне захотелось узнать о нем какие-нибудь подробности. Но как? В Москве я коротко познакомился с тобой в последнее время, а Шмакова знал мало. Да, может быть, это еще и не тот. Ехать знакомиться не хотелось. И тут судьба помогла мне самым неожиданным и странным образом. Ночной крик сов до того мне надоел, что я приказал по частям разбирать и снова крыть крышу. Как-то поутру выхожу посмотреть на рабочих, вижу – по дороге едут крытые дрожки парой. Сначала я не обратил на них особенного внимания – мало ли кто ездит по большой дороге! Но потом смотрю: дрожки забирают влево, к дому, и наконец остановились у крыльца. Вертлявая женщина, на лицо лет тридцати, в сером бурнусе, с палевой шляпкой на затылке, выскочила из экипажа. Темно-карие глаза и черные брови придавали ее несколько рябоватому, лицу энергический и бойкий вид. Темно-русые, пышные волосы разделены были спереди косым пробором и большая половина раздела, над самым лбом, ухарски приподымалась кверху, как у мужчины. «Петр Петрович Морев?» – спросила она, протянув ко мне руку в серой лайковой перчатке. «К вашим услугам». – «Уездная акушерка Палагея Николаевна. Прошу полюбить». – «Позвольте узнать, чем могу служить вам?» – «О! о! какой церемонный! Прикажите-ка дать лошадям овса, да пойдемте в комнату; тут жара невыносимая». С этим словом она побежала на крыльцо. Я последовал за ней. «Пожалуйста, голубчик, не сердитесь! Я знаю все, что делается в уезде, и проведала про вашу скуку. Была здесь по соседству у помещицы; дай, говорю, заеду поболтать. Ведь вы еще не обедали?» – «Нет; кажется, довольно рано!» – «Тем лучше, поболтаем, пообедаем вместе, лошади отдохнут, и с богом». Сначала я был озадачен развязностью Палагеи Николаевны, но, оправившись, предложил ей снять шляпку. Сбросив шляпку на стол, она стала перед зеркалом, без всякой видимой нужды размотала свою толстую, блестящую косу, полюбовалась ею, кинула на меня плутовской взгляд в зеркало и снова уложила косу на затылке. «Теперь я к вашим услугам, – сказала Палагея Николаевна, обращаясь ко мне с улыбкой. – Где ваша комната? Давайте курить и болтать». За болтовней у нее дело не стало. Усевшись в кабинете у растворенного окна, мы благодаря незастенчивости моей гостьи в полчаса стали друзьями. «Смерть люблю молодых людей! – вскричала Палагея Николаевна, неистово целуя меня в щеку, – милашка! – прибавила она, – усики только пробиваются, и сердечко должно быть доброе». – «Палагея Николаевна! – сказал я, – уж если пошло на откровенность, скажите, отчего вы не выйдете замуж?» – «Замуж? Нет, голубчик, этот совет побереги для других. В тридцать восемь лет худо замуж выходить. Надо за старого – а они такие гадкие, изверги». В эту минуту красный Господин, со стеклышком в глазу, поравнявшись на тройке буланых с домом, поехал шагом. Заметив его, Палагея Николаевна отвернулась. «Палагея Николаевна! Скажите, пожалуйста, кто этот чудак? Говорили мне, Шмаков, да как его зовут?» – «Как его зовут? – с жаром подхватила Палагея Николаевна, – изверг, низший, самый низкий человек – вот как его зовут. Хоть и величают его Аполлоном Павлычем, а он просто Змей Горыныч. Если б я, кроме него, никого мужчин не видала, и тогда скорее бы живая в гроб легла, чем замуж вышла». – «Да чем же он так заслужил ваш гнев, Палагея Николавна?» – «Чем заслужил гнев? Ведь он жену-то, милочку-то, агнца-то невинного погубил, зарезал. Вы этого не знаете? не слыхали? Я вам расскажу. Женился-то он не на ней, а на большом имении. А у нее мать-то в Москве, знать, не промах: не дала ничего. Сначала он к жене подольщался: «Сонечка, такая-сякая, пиши к матери», разломал старый дом, выстроил большой флигель, а против середины двора затеял барские хоромы. Да как узнал, что не получит имения – как бы вы думали? возненавидел жену-то. Я, говорит, вас (все «вы» ей говорит)… я, говорит, вас просто ненавижу. Вы, говорит, мне свет завязали. А между тем дело-то подошло к тому, что и за мной пора посылать. Как бы вы подумали! ведь не хотел, не хотел, изверг-то. «А мне, говорит, какое дело?» Да уж мать-то его, скупая, но добрая старушка, на свой счет меня в дом взяла. Господи! чего только я там не насмотрелась! Погляжу, бывало, погляжу на нее – любит его, голубушка, без памяти. Уж чего-чего не делала! Время, знаете, пришло, уж не до нарядов. Одевается, бедняжка, волосы заплетает, завивает… Ростом-то он весь с воробья. Что ж бы вы думали? театральные башмаки без подошв из Москвы потихоньку выписывала, чтоб ниже ростом казаться: ничего не помогло. Заладил одно: «я вас ненавижу», да и только. Да если б вы знали, какие каверзы выдумывал! У матери она не привыкла к бойким лошадям. Старуха, знать, их боялась, дочь тоже. Это ему и на руку. Велит в крохотную варшавскую колясочку заложить четверку жеребцов. Лошади со стойки на стены лезут. Возьмет ее в этом положении-то, посадит, сам сядет и крикнет «пошел!». Лошади от крыльца понесут, жена в обморок, а он заливается со смеху. А не то в дождливую погоду велит ей одеться в белое платье, обуть белые атласные башмаки, и марш гулять. Выведет ее, бедняжку, на двор, сам на лошадь верхом и норовит всю забрызгать. Обдаст всю с ног до головы грязью и рад, хохочет… Пришло время родов… Признаюсь, я сама испугалась. И простудил-то он ее, и напугал-то – умирает женщина, да и только. Потребовала мужа. Приходит сахар медович. «Что вам, – говорит, – нужно?» – «Аполлон, – говорит она, – друг мой, я умираю! Прости меня великодушно! Я, – говорит, – была твоим горем, не умела сделать тебя счастливым. Я одна виновата. Но я знаю, ты великодушен. Прости меня!» Уж так она его просила, так умоляла, что даже я не вытерпела – разревелась.
– Ну, а он-то что? – перебил я Палагею Николаевну.
– Он? – продолжала рассказчица, – как с гуся вода. Повернулся, расправил скобку – только и видели. Как-то бог помог: родилась дочь. Мать рада; старуха Шмакова земли под собой не слышит, так и сидит над внучкой. Смотрю, на третий день и противный-то приходит к жене. «А вы, – говорит, – не умерли? Ведь вы обещались умереть…»
На этом месте рассказа Морева в дверях показался станционный смотритель и объявил, что лошади готовы.
– А уложились?
– Совсем, – прибавил смотритель.
– Ну, прощай, брат Ковалев, – сказал Морев, пожимая мне руку. – Жаль, не досказал я тебе про Палагею Николавну. Ну, да еще увидимся. Приезжай поскорей.
– Ты не забудь, Петруша, напиши, не поленись, да поподробнее.
Колокольчик зазвенел, и Морев покатил за ворота.
VIII. Чернецов
Когда я объявил батюшке о намерении своем определиться в военную службу, он сказал: «Что ж? Прекрасно! Где хочешь служи. Ведь не я буду служить, а ты. Чем скорее, тем, по-моему, лучше». Матушки в Комнате не было: возражать было некому, но это не помешало батюшке с жаром вооружиться против невидимого противника. «Да нет, – продолжал он, – я не из числа ахал! Сынка жаль? Нет, нет, это не моя метода любить; да таки-нет, нет, это не моя метода. По-моему, поезжай хоть в Америку, да будь счастлив». Добрый батюшка! Поэзия жизни для него не существовала. Мечтать, предчувствовать было не его делом. Казалось, он всю жизнь развивал одну тему: «по-моему, это справедливо; я этого непременно хочу – и это непременно будет». Постоянным девизом его была пословица: «Что посеешь, то пожнешь». Много, неотступно трудолюбиво сеял он на веку, но много ли пожал и каких плодов? Зато чуткое сердце матери вещим голосом отозвалось в последнее время. «Друг мой! – говорила она, взяв меня за руки и со слезами глядя мне в лицо, – дай мне в последний раз налюбоваться на тебя; дай еще раз расчешу твои густые волосы. Сердце чует, что расстаюсь с тобой навеки».
Так прошло недель пять. Получив письмо от Морева, я прочел его батюшке.
– А за куропатками-то советую тебе пореже. Служба, служба и служба, а эти куропаточники-то – дешевенький народ. Нынче куропатки, завтра куропатки, toujours perdrix[39], а потом что? Нет, нет… Надо тебе, однако ж, до отправления, к сестре съездить. Пусть они будут передо мной виноваты. Вот племянница-то в двух шагах мимо дома проехала. Что? нездорова? Сиди дома. Это непристойно – попросту сказать. А я вот пошлю лошадей на подставу. Сядешь в коляску, откатаешь – ан дело-то и сделано. Да ведь нет, нет! с людьми так жить нельзя.
Часу в одиннадцатом утра въехал я на широкий двор Мизинцева. Ничего не могу узнать. На месте старого дома новый, довольно большой флигель. Кругом какие-то домики, как будто сердясь, отворачиваются друг от друга, а против середины двора стоит, подавляя всю мелкую братию величием затей, недостроенный деревянный колизей. В окнах, как и следует у колизея, рам нет, и по узким доскам, которыми поперек забиты эти окна, можно предполагать, что деревянное чудовище уже предоставлено собственной судьбе. «Куда тут ехать?» – спросил я какого-то малого. «А вот налево-то, к новому фигурю. Там барин живет, а в большом-от старая барыня да молодая».
Аполлона я застал в комнате, которая представляла все что угодно: спальню, кабинет, приемную, гостиную. Стены и кровать завешаны дорогими варшавскими коврами. На зеленом столике серебряный рукомойник с таким же прибором. На стенах, в золотых рамах, литографии двусмысленного содержания и достоинства. Затейливая мебель, рабочий стол и на нем бумаги, помада, счетные книги, фиксатуар, духи, романы, рижские пурки, овес, пшеница; на окнах гречиха и ячмень.
Хозяин встретил меня в красной рубахе, точь-в-точь, как рассказывал Морев. Широкие зеленые шаровары в сапоги. Вокруг голой, растолстевшей шеи эластический шнурок и на нем стеклышко.
– Ба, ба, ба! Какими судьбами? – запищал Аполлон, завидя меня. – Насилу завернул в нашу сторону!
– И то ненадолго, – отвечал я, – приехал взглянуть на тебя, поклониться тетушке, да и в полк. – Поздравляю, поздравляю!
– Позволь мне переодеться. Хочу сейчас же идти к тетушке.
– Не ходи, братец, лучше…