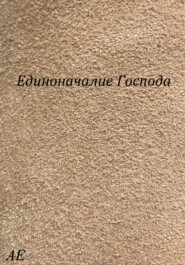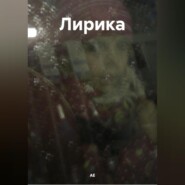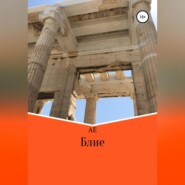По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Плут, или Жизнеописание господина Плутнева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кое-кто ржал да быстро осёкся, кто-то клеился к ней, но рудой своей умылся, так что никто не смел даже зыркнуть на неё, чтоб я не знал.
– Дима, не вздумай бросать учёбу, знание – сила, знание – свет, окно в бескрайний мир.
Дима.
Я Плут давно, только для неё и сестры Дима. Она говорила «Дима», и я вздрагивал, как бы и не ко мне она обращалась, а вроде и ко мне, только из другой жизни, чем жил. Я знал про себя, что повторяет она за отцом, директором нашей школы, который то же талдычил со сцены каждое первое сентября, ещё и со стихами Шекспира, Омар Хайяма, Данте, Пастернака и остальных мозгоправов. Но ослушаться её даже и не думал.
Перестать её видеть, как серпом по яйцам!
Анька
19 августа 1992 года сеструха получила паспорт и позвала на весельбу. В траве на берегу Нищенки Анька разложилась газетой с угощением: бутылка водки, четыре пива в зелёном стекле, пачка сигарет почти цела, консерва печени трески, батон колбасы варёной, горка огурцов с задов, кирпич беляшки.
Она смотрела грустно, так что ждал плохого.
– Братик, сам видишь, мамка совсем озверела, так что я сваливаю.
– Куда? – удивился я, хрустя огурцом, ещё ничего не понимая, сявка малолетняя.
– В Питер с Маринкой насовсем. Там за секс с малолеткой дяденьки толстые и пять, и семь штук платят, надо пользовать, пока молода. Надо успеть заработать.
C ноги по яйцам.
Я раскис как баба. Анька, глядя на меня, заплакала и прижала мою голову к своей большой тёплой груди. Я зарыдал, сам не зная отчего, и не мог остановиться. Выл, как бык, на всю Нищенку.
Потом пили водку, захлёбывая пивом, курили, со смехом полезли пьяные купаться, хоть вода и холодна. Но всё одно было дерьмово так, что хотелось разом и реветь, зарывшись в сено, и кусаться, как собака.
Наутро я стоял на остановке. Башка трещала. За пыльным окном перекошенного на левый бок автобуса, который с грохотом и лязганьем, как трактор, натужно, словно через силу, отъезжал от меня, Анька и Маринка махали руками. Может, и ревели, не помню.
Стучало железо, вонял сизый выхлоп, девчонки шлёпали пятернями в заднее стекло, я вяло качал веткой сестре, которую больше никогда не видел.
Теперь вся злость мамкина на меня уходила. Да и отец свихнулся, стал хвостать почём зря, если что наперекорки скажешь. С середины сентября зарядили дожди, и стало совсем тоскливо.
Мы с пацанами лазали по дачам, набирали по мелочи, трясли малышню, выбивали из пьяных, но меня уже не грело. Даже новости, что порешили главу нашего района, что это Мирон сделал руками Серёжи Газона, чтоб поставить своего, возбуждало пацанов, не меня. Где большие дела, а где мы, шкеты последние. Наоборот, мне эти важные новости: про убийство, что подпалили дом участкового в Устье и что сделали это, по слухам, Твиксы, только тыкали как носом в дерьмо коровье, напоминали, какая мы жалкая шантрапа.
В один день я собрался в дурку найти младшую сестру. Зачем не знаю, но решил, посмотрю, а потом, наверно, утоплюсь.
Как сука последняя ластился к сторожу:
– Пусти, дяденька, сестра у меня тут.
– Пошёл, щенок, отсюда.
Меня окурком в толчок спустили; ярость закружила, завертела. Я набрал камней и разнёс ему окно в сторожке. Счастье душу пробило! Он выскочил с дубинкой, но я тоже не ссыкло последнее, давай метать в него, чтоб в висок, чтоб положить наверняка. В грудь попал, но дед, сука, увёртлив, я ноги делать, он, гад, не отстаёт, дышит на ухо, граблёй прям чирк по куртке. Поймает, старый пердун, положит навсегда, и я из последних дёрнул в придорожную канаву, в воду ледяную по колени рухнул, но вскарабкался и в лес. Лес топкий, ноги застыли совсем, ещё в болотину провалился, но через щёлку в заборе протиснулся, как челен молодой в дырку узкую.
Стоит на поляне терраса под крышей, с боков досками голубыми обита, по доскам медведи бурые, зайцы белые намалёваны, правее за стволами берёзовыми силикатного кирпича двухэтажный корпус, за редкой листвой жёлтой крыша тёмно-серая, мокрая, шиферная. На террасе этой сидит огромная баба в белом халате на куртку, тубаретку жопа всосала, вокруг карапузы трёх-четырёхлетние или около. Кто сидит на стульчике, кто в коляске такой. Смотрят в одну точку, иногда голову повернут и всё. Иногда один встанет, пройдет, сядет. Казалось мне, девочка белобрысая на стульчике, которая с открытым ртом пялилась в кусты, где я сидел, это сестра моя. Иначе отчего она белёсая, как Анька, что уставилась, может, чувствует меня? На террасе ни криков, ни разговоров, только мычание. Слышно, как за спиной в лесу птицы перелетают, крылья трещат. Ветер подует, и листья со стуком о стволы бьются. И так жалко мне себя стало, и эту сестрёнку мою, и Аньку, что бросился на землю и реветь, только набил жёсткими осиновыми листами рот, чтоб не услышал никто.
Возвращаясь домой, твёрдо решил, что порешусь, утоплюсь в Княжне, там, где с тарзанки сигал.
Галка
Чем больше думал о смерти, тем больше мечтал о ней. Как в дерьме измажешься и носом тянешь; чем чаще занюхиваешь, тем, кажется, вонь сильнее. Залезу на берёзу, прикручу наново веревью, как дед мне делал, разбегусь со всех сил по мокрой жёлтой и чёрной листве, скользкой, рыбьей чешуёй облепившей берег, взлечу над водой в разводах от капель и сигану прям в одежде, чтоб сразу утянуло. А там уже ни скотских родаков, ни орущих училок, ни голода, ни ссак дождей.
Скорее прикидывался, а как до дела дошло, обделался бы наверняка. Но привык думать, что спасла Галка. Как сука щенка своего, зажав в зубах, за шкирку вынесла.
Прибежала в слезах.
– Хватал меня, в забор прижал. Под платье лапал. Я вырвалась, а он: «Завтра пойдёшь, дождусь тебя, малолетка».
Она плакала, а я злой, но и счастливый оттого, что ко мне пришла, оттого, что она, небесная, плачет передо мной. Я так охерел, что даже ладонью погладил её плечико. Она и не заметила, а меня током долбануло так, что и сейчас ладонь помнит и круглую шишечку на предплечье, и тонкую, будто куриную кость, руку от плеча до локтя под шершавой тканью шерстяного платья.
– Галчонок, только не плачь, я всё решу, больше он к тебе не подойдёт. Не плачь, я клянусь, решу!
Он борзо лыбился и уверенно шаркал, даже не замечая меня, потому тот кайф, с которым я втащил ему снизу-вверх кастетом, забивая залупу носа в череп, навсегда со мной. Из двери подъезда выскочил Генка и черенком лопаты перебил ему сбоку коленку. Тот заорал и ухнул в лужевину посреди дороги, длинную, вытянутую как Северная и Южная Америки на географической карте с тонким Панамским перешейком. Подвалил Толстый, и мы втроём стали месить его, балдея от победы и того, что старший базланит и извивается в грязи под нами.
Тройку дней мы ходили гоголями, не прогуливали школу, наслаждаясь славой, пока к подгорице, где мы курили после уроков, не прибежал Генка с замороженной рожей:
– Это не фраер залётный, это Глист, пацан Газона, он здесь за самогонщицами приглядывал!
– Нас всех убьют, – мёртво сказал Толстый, и его морда, до того розовая и довольная, сморщилась как древний анус.
– Нас Твиксы замучают! – пискнул Паяльник.
Со злости я дал ему пождопника, так что он аж подскочил еще пару раз сам.
– Ты что ссышь, тебя там близко не было, гондон конченный.
Толстый стоял ко мне спиной в своей синей куртке, сгорбившись, так что я видел его нечёсаные рыжие волосы, разделенные на затылке молочной слезой кожи, лежавшие прядями по сторонам черешка, как у листа дубового покрасневшего, жирного от влаги.
Слезу пустил, с мамкой прощается. Кому он нужен, мне предъявят. Паяльник зыркал на меня снизу-вверх и тёр задницу двумя ладонями, по ладошке на полужопие. Только Генка был боле-мене спокоен, но задумчив. Тогда, небось, гадёныш, продумал.
Что базарить, я сам обделялся мощно, как тогда в сарае, когда думал батя забьёт в землю. Но точно не жалел. Думал, лучше так, на глазах у Галочки грызть Твиксов и лечь здесь, чем по-тихому в омуте речном.
Пятиэтажка из серых блоков в белых окнах, низкая огородка с просветами из тощих досок, за ними, как небритая лохматка, густые кусты облетевшей смородины. Пустая дорога села, по которой проехала, переваливаясь на неровностях, и остановилась вишнёвая восьмёрка с чёрными стёклами. За ней вдоль огородки встала чёрная девятка, с чёрными стёклами. Сердце засосала жопа.
«Как чёрная метка у пиратов в кино «Остров сокровищ»!
«Надо слиться прям ща!»
«К Галке, сука, опять подкатит!» – ярость вытолкнула сердце под гланды.
«Нахер шкериться – всё одно – споймают и матку наизнанку вывернут».
«Лучше здесь, у Галочки на глазах биться за неё, чем меня на задах закопают по-тихому».
После урока Генка со словами: «Мне очень надо» – слился.
Я ждал, что это будет Толстый.