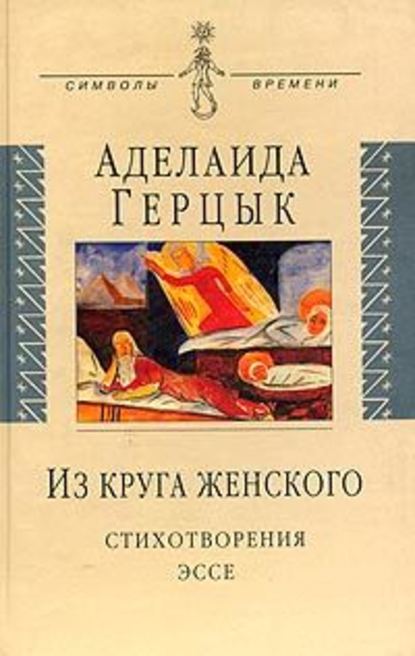По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание стихотворений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что с кавалером в век чудесный
Здесь танцевала менуэт.
Других примет и знаков – нет,
Что было дальше – неизвестно.
Здесь сохранился только след
От ножки стройной и прелестной.
Но чуть вступлю я на паркет —
Пусть то смешно и неуместно,
Но в пляске легкой, бессловесной
Качаюсь я за ними вслед,
Где сохранился только след.
Весна 1923
Симферополь
«Стосковался мой голубь в темнице…»
Стосковался мой голубь в темнице,
Мой сизокрылый, мой строгий —
Услыхал, как вещие птицы
Воркованием славят Бога.
И забился крылами в стены,
Стены темны и низки.
Рвется из долгого плена,
Чует, что сроки близки.
Что это? Пенье ли птицы?
Или то звон колокольный?
О, как трепещет в темнице
Голубь святой, подневольный!
1923
«Я стала робкой в годы эти…»
Я стала робкой в годы эти, —
Чужая молвь невнятна мне.
Так непохоже все на свете
На то, что снилось мне во сне.
Мои движения нечетки,
Живу и вижу все сквозь сон.
И речи неуместно кротки,
И старомодно вежлив тон.
Я ночью забрела незваной
В чужой, неведомый мне сад,
И далеко – в стране тумана
Зарыт ненужный, милый клад.
А здесь я нищая. И надо
Труды покорные нести.
Чему же сердце смутно радо?
Горит пред образом лампада
И главный Гость еще в пути.
Зима 1923 – 1924
Симферополь
«Он был молод и жил среди нас…»
Памяти Бориса Шульги.
Посвящ. другу умершего, Адриану Талаеву
Он был молод и жил среди нас.
Целый день его шутки звенели…
Кто сказал бы, что кончен рассказ,
Что всех ближе к последней он цели?
Отзвучали и речи, и смех,
Повернулась земная страница.
Ныне ясно: он был не из тех,
Кто в неволе подолгу томится.
Видно, в воинстве Божьем стал нужен
Тот, кто молод, и светел, и смел.
От земного был сна он разбужен,
Чтоб принять свой небесный удел.
Нет, не плакать над горькой утратой,
Не молчать, свою боль затая, —
Будем веровать в чудо возврата,
Будем ждать новых тайн бытия!
Пусть наш мир полон слез и печали,
Но он полон и вещих чудес.
Мы идем – и в неведомой дали
Мы узнаем все то, что не знали,
Что он умер и тут же воскрес.
Весна 1924
Симферополь
Здесь танцевала менуэт.
Других примет и знаков – нет,
Что было дальше – неизвестно.
Здесь сохранился только след
От ножки стройной и прелестной.
Но чуть вступлю я на паркет —
Пусть то смешно и неуместно,
Но в пляске легкой, бессловесной
Качаюсь я за ними вслед,
Где сохранился только след.
Весна 1923
Симферополь
«Стосковался мой голубь в темнице…»
Стосковался мой голубь в темнице,
Мой сизокрылый, мой строгий —
Услыхал, как вещие птицы
Воркованием славят Бога.
И забился крылами в стены,
Стены темны и низки.
Рвется из долгого плена,
Чует, что сроки близки.
Что это? Пенье ли птицы?
Или то звон колокольный?
О, как трепещет в темнице
Голубь святой, подневольный!
1923
«Я стала робкой в годы эти…»
Я стала робкой в годы эти, —
Чужая молвь невнятна мне.
Так непохоже все на свете
На то, что снилось мне во сне.
Мои движения нечетки,
Живу и вижу все сквозь сон.
И речи неуместно кротки,
И старомодно вежлив тон.
Я ночью забрела незваной
В чужой, неведомый мне сад,
И далеко – в стране тумана
Зарыт ненужный, милый клад.
А здесь я нищая. И надо
Труды покорные нести.
Чему же сердце смутно радо?
Горит пред образом лампада
И главный Гость еще в пути.
Зима 1923 – 1924
Симферополь
«Он был молод и жил среди нас…»
Памяти Бориса Шульги.
Посвящ. другу умершего, Адриану Талаеву
Он был молод и жил среди нас.
Целый день его шутки звенели…
Кто сказал бы, что кончен рассказ,
Что всех ближе к последней он цели?
Отзвучали и речи, и смех,
Повернулась земная страница.
Ныне ясно: он был не из тех,
Кто в неволе подолгу томится.
Видно, в воинстве Божьем стал нужен
Тот, кто молод, и светел, и смел.
От земного был сна он разбужен,
Чтоб принять свой небесный удел.
Нет, не плакать над горькой утратой,
Не молчать, свою боль затая, —
Будем веровать в чудо возврата,
Будем ждать новых тайн бытия!
Пусть наш мир полон слез и печали,
Но он полон и вещих чудес.
Мы идем – и в неведомой дали
Мы узнаем все то, что не знали,
Что он умер и тут же воскрес.
Весна 1924
Симферополь