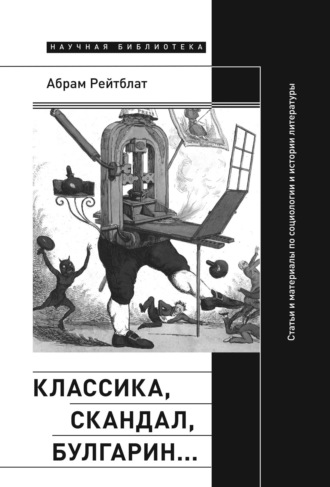
Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы
Из представлений о семейном, патриархальном характере связи помещика с крепостными у Каразина вытекало сравнение русских крестьян с западными: «Боже, сохрани нас, русских дворян, <…> довести когда-нибудь земледельцев своих до того состояния, в котором они находятся в других (слишком превозносимых) краях Европы, состояния жалостнейшего, где они, имея полную свободу, обязаны скотоподобно работать у того или другого фермера от петухов до темной ночи, не зная ни сладкого отдыха в семействе, ниже других жизненных наслаждений, едва самым законом не лишены возможности приобрести какой-либо избыток, и не могут иметь другой мысли, кроме мысли о дневном пропитании!»258
Подобное сравнение с положением крестьян на Западе мы встречаем и у Мордвинова. Он утверждал, что «землевладелец в России не есть дневной работник дневного пропитания и без всякой оседлости. Он имеет дом свой, скот, орудия, хозяйство и удел земли, не токмо питающий все его семейство и удовлетворяющий его нуждам и повинностям общества иных, но и наполняющий еще запасную его житницу. За работу же и посевы на помещиков получают трудящиеся в награду почти везде лучшую половину из поместья и невозбранное владение всеми различными угодьями оного. И где таковым вознаграждением, кроме России, пользуются они? – Оставя все отвлеченные умствования и не предаваясь пылкости воображения, увлекаемого обманчивыми мечтами, когда исчислим все потребности удовлетворения, коим природа положила начальные степени благополучия человеческого и не придала их умствованию, но ощущению чувств, то усмотрим чрез беспристрастное сравнение, что люди сего состояния в России наслаждаются участью счастливейшею, нежели таковую имеют равные им во многих, если не во всех других землях»259.
Подробно разбирает Каразин экономические аргументы против крепостного права. Он полагает, что росту численности населения препятствует не крепостное право, а пьянство, нехватка врачей и т. п. Утверждает он также, что крепостные крестьяне трудолюбивы, доказательством чему вывоз из России зерна в больших объемах. А что касается нравов, то, напротив, «в целой Европе только лишь между земледельцами Гишпании, Швейцарии, в Швеции, маленькой части Германии и в России сохранилась чистота нравов»260.
Деятельность помещиков Каразин трактует как человеколюбие, заботу о крестьянах и даже пишет о «прелести владычества»261. От «неистовств власти» помещиков предохраняют, по его мнению, «три важные узды: обычай, религия, совесть»262.
Давать свободу крестьянам, считает Каразин, нельзя ни в каком случае, поскольку это «отворит дверь к своеволию», за объявлением свободы могут последовать «всеобщая праздность и пьянство» и т. п.263
В следующем году (1811) после труда Каразина была подготовлена записка графа Ф. В. Ростопчина «Замечание на книгу г-на Стройновского», которая не была тогда опубликована, но широко распространилась в рукописи. Ростопчин, скорее всего не знакомый с работой Каразина, воспроизводил многие ее положения, что было обусловлено общими мировоззренческими посылками.
Ростопчин тоже считал, что «распутство, лень и нерадение их (крепостных. – А. Р.) превышает понятие»264 и что к обработке земли их можно только принудить. Получив свободу, они бросят земледелие и запишутся в мещане или купцы.
Заставляя их трудиться, помещики, по мнению Ростопчина, оказывают им благодеяние, «ни один честный и добродетельный человек не захочет отказаться добровольно от драгоценного права быть благодетелем части людей, под защитой его живущих, и сим уподобляется в милосердии и человеколюбии великодушному своему Государю <…>»265. Помещик снабжает крестьянина лошадью, домом, хлебом на посев и т. д.
Еще один приводимый им аргумент – длительность существования крепостного права в России: «…всякое государственное постановление, хотя и сопряженное с некоторыми неудобствами, но давно существующее, долгим бытием своим всегда доказывает, что оно или полезно, или не могло быть заменено лучшим»266.
Можно встретить в «мнении» Ростопчина и указание, что английские фермеры живут хуже русских крестьян.
Через несколько лет была опубликована под псевдонимом Русский дворянин Правдин статья «Сравнение русских крестьян с иноземными», в которой автор рисовал идиллическую картину жизни крестьян, которые «в своей неволе благоденствуют»267. Для доказательства этого тезиса он использовал, по сути, те же доводы. Автор писал: «Мы любим и слушаемся Царя как Богом данного нам Властителя и Отца; и мужички так же нас любят и слушаются в таком же отношении»268. Правдин утверждал, что помещик дает крестьянину достаточное количество земли, собственный дом и двор, в случае голода снабжает зерном, а в ответ крестьянин должен отработать на него только три дня в неделю; помещик бережет своих крестьян как собственность свою, как источник своего богатства и, смело можно сказать, как членов своего семейства <…>»269.
Писал Правдин и о том, что зарубежный крестьянин не имеет никаких гарантий и в случае неурожая или несчастного случая разоряется. Многие из них переселяются в Америку или в Россию. Русские же крестьяне, по Правдину, гораздо счастливее.
В. Усолкин в 1830-х гг., оперируя теми же аргументами, экономически доказывал взаимовыгодность крепостного права для крестьян и помещиков. Он утверждал, что крепостное право, «целию коего было утверждение благосостояния господина и крестьянина, везде и всегда обеспечивается их общею пользою. <…> если господин увеличит чрезмерно свой доход, то тем уменьшит свой капитал, ибо разорит крестьян. <…> Ни в каком другом государстве крестьянин не получает такого возмездия за свои труды, как по всему пространству России – разумеется, возмездие относительное, а не прямое, т. е. удовлетворение крестьянина плодами от земли, а не денежную плату за поденную работу»270. Проведя разного рода расчеты, Усолкин приходил к следующему выводу: «…можно наверное утверждать, что во всяком случае крестьянин вознаграждается в полтора раза за принесенный им господину доход, и верно нет такой страны в Европе, где крестьянин, по вольной цене определяющийся, получал бы такое щедрое возмездие. <…> крестьянин трудится за господина, который платит ему за то землею»271.
Н. Г. Вяземский в упоминавшейся выше записке 1818 г. писал, что крепостное право благодетельно272. Он воспроизводил традиционный набор аргументов, в том числе указание на давнее существование крепостного права и его тесную связь с существующим порядком, сравнение помещика и крестьян с членами семьи, неприемлемость для России европейских представлений: «…самодержавная власть почла за самое полезное, безопасное и успешное наделить дворянство поместьями в идее награды за службу, препоручив попечению его благоустройство и благоденствие подвластных ему крестьян, и тем полагала воскресить древнее и мудрое патриархальное правление. Сим благообдуманным соображением правительства помещик поставлен в виде отца обширного семейства домочадцев своих; тесная и неразрывная связь соединяет его с детьми своими, – все нужды и недостатки их должны равномерно тяготить его, всякая неудача и потеря их убыточны и для него, благосостояние их существенно соделывает богатства его»273.
Против освобождения крестьян в упоминавшейся выше «Записке о древней и новой России…» выступал и Н. М. Карамзин. Он полагал, что освобожденные крестьяне станут хуже работать, ссориться между собой и судиться, пьянствовать, совершать преступления и т. д. В результате государству будет нанесен вред274. Карамзин писал: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу <…>, но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных – ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным <…>»275.
Осуществленное нами выделение двух риторических стратегий защиты крепостного права («универсалистской» и «особого пути») имеет идеально-типический характер. На практике конкретные мыслители могли совмещать положения и аргументы обеих версий.
В заключение выделим основные аргументы, использовавшиеся для апологетики крепостного права или для утверждений, что отмену его следует отложить на значительный срок.
Прежде всего это стремление не использовать обладающий в просвещенческой идеологии весьма негативными коннотациями термин «рабство». Многие из защитников крепостного права заявляли, что его нельзя отождествлять с рабством. Они отмечали, что, в отличие от рабовладельца, помещик не может убить принадлежащего ему крепостного. Второй довод был связан с распространенным в то время метафорическим сравнением отношений помещика и крестьян с семейными.
Следующий аргумент – это давность и привычность существования крепостного права, его укорененность в образе жизни. Этот аргумент увязывался с другим – о тесной связи крепостного права с самодержавным образом правления. При этом проводилась аналогия управления помещика в поместье и управления монарха в государстве.
Важным аргументом в полемике со сторонниками освобождения крестьян было утверждение, что из-за специфических условий (громадные масштабы страны, наличие разных народов, разных климатических условий и т. д.) европейский опыт и европейские рецепты не подходят для России.
Еще один важный аргумент апологетов крепостного права – утверждение о сложности проведения освобождения крестьян. Он исходит из представления о крестьянах как о людях ленивых, не думающих о будущем, любящих пьянствовать, злобных, распутных и т. д. Согласно ему, крестьяне не готовы к свободе. Освободившись, они бросят земледелие, частично перейдут в мещане и купцы, частично сопьются, начнут ссориться и драться, заводить тяжбы и т. д. Наступит упадок земледелия, в армию будет идти мало рекрутов, дворяне обеднеют, и в итоге монархия окажется в опасности.
Все эти аргументы, как, впрочем, и аргументы критиков крепостного права, не основывались ни на исторических данных (история закрепощения крестьян была в тот период изучена слабо), ни на материалах статистических или экономических обследований (поскольку в тот период они не проводились) и носили чисто риторический и моральный характер. При этом с ними не было знакомо подавляющее большинство владельцев крепостных, и, соответственно, они могли влиять только на высшую власть, но не на общественное мнение, которое, пусть и в зачаточной форме, все же существовало в то время.
Для изменения отношения к крепостному праву должны были произойти изменения в общественных настроениях. Ведь как у защитников крепостного права, так и у его критиков крестьянин долгое время выступал как объект, а не как субъект действия. Подобная теоретическая аргументация, даже если она проникала на страницы печати, не способна была увлечь широкие слои читающей публики. С повышением уровня образования дворянства, появлением интеллигенции, ликвидацией крепостного права в большинстве государств Европы, ростом числа посещающих европейские страны и т. д. ситуация постепенно изменилась, особенно после того, как в 1840-х гг. ряд литераторов (Д. В. Григорович, И. С. Тургенев и др.) представили крестьянина «изнутри» – как любящее, страдающее, мыслящее существо. Идя далее, славянофилы, а особенно Л. Толстой поменяли полюса местами, заявив, что крестьяне – хранители нравственных ценностей русского народа и что теперь образованному обществу (в том числе и помещикам) следует учиться у крестьян. Изменение трактовки образа крестьянина в культуре, а затем и социальные сдвиги в стране после Крымской войны привели к переменам в отношении к крепостному праву значительной части дворянства и позволили добиться его отмены в 1861 г.
Ф. В. Булгарин
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф. В. БУЛГАРИНА276
Тема «Булгарин-критик», как это ни парадоксально, практически не изучена. Статьи Булгарина не собраны и, за исключением откликов на произведения Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, не переиздаются. В обзорных работах по истории русской критики имя Булгарина нередко упоминается по разным поводам, но специально не рассматривается, в отличие от публикаций В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Д. В. Веневитинова277. Однако названным авторам принадлежат лишь немногочисленные литературно-критические тексты, в то время как Булгарин опубликовал сотни статей и рецензий. Можно по-разному относиться к их уровню, но если принять во внимание продуктивность Булгарина и степень его влияния на читателей, то нельзя будет не признать, что он один из ведущих русских критиков 1820–1840-х гг. Он печатался в самых распространенных периодических изданиях того времени («Северная пчела», «Сын Отечества»), а по продолжительности выступления в печати и по объему опубликованных литературно-критических статей с ним не может сравниться никакой другой русский литературный критик XIX столетия278. К его высказываниям прислушивались (или, напротив, от них отталкивались) многие русские писатели и читатели второй четверти XIX в. Однако если поэтика Булгарина нашла ряд серьезных исследователей (Ю. Штридтер, В. Э. Вацуро, З. Мейшутович, Р. Лебланк, Н. Н. Акимова279), то его литературно-критические взгляды до сих пор не подвергались специальному рассмотрению.
В данной работе мы предпримем такую попытку, причем будем рассматривать преимущественно статьи, рецензии и предисловия Булгарина, то есть такие тексты, в которых он прямо выражал свои взгляды на литературу. Поскольку Булгарин был и писателем, то в принципе его литературно-критические взгляды можно реконструировать на основе произведений, через их поэтику, но у литераторов произведения воплощают эти взгляды не напрямую, а в преломленном виде, что зависит как от сложившихся литературных традиций, так и от мастерства автора, его способности воплотить свои теоретические представления в конкретном произведении. Так, Жуковский, уже опубликовав рад романтических стихотворений, в теории в течение ряда лет еще оставался приверженцем классицизма280.
Тема статьи сложна, многоаспектна и, как сказано выше, слабо изучена. Поэтому изложение будет носить в значительной степени тезисный характер и включать при этом большое число цитат из литературно-критических текстов Булгарина, что позволит, на наш взгляд, представить его взгляды более объемно.
Формирование взглядов Булгарина на литературуВначале проследим, как формировались литературно-критические взгляды Булгарина. Этот процесс проходил в несколько этапов. Основа была заложена во время обучения в 1798–1806 гг. в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, дававшем неплохое по тому времени образование. Это учебное заведение имело богатые литературные и театральные традиции, по словам Булгарина, там «преобладал дух литературный над всеми науками»281. В корпусе учился А. П. Сумароков, а позднее, став там преподавателем, он поставил с учениками свою первую трагедию «Хорев» (1749), с 1750 г. кадеты играли пьесы Сумарокова при дворе, а на основе подготовленной Сумароковым в корпусе труппы в 1756 г. был создан первый в России публичный театр. Учащимися корпуса являлись ставшие впоследствии писателями Я. Б. Княжнин, М. М. Херасков, В. А. Озеров, М. В. Крюковский и др. В «Воспоминаниях» Булгарин писал о сильном влиянии, которое оказал на него Петр Семенович Железников (1770 – после 1810), который с 1790-х гг. преподавал в корпусе русский язык и литературу и составил литературную хрестоматию «Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам Первого кадетского корпуса» (В 4 ч. СПб., 1800–1804)282. Хотя он был классицистом, но с началом деятельности Карамзина проникся духом сентиментализма и стал знакомить кадет с произведениями Карамзина. Хрестоматия его включала, по словам Булгарина, «избранные места и отрывки <…> из лучших русских писателей (в стихах и прозе), из древних классиков и знаменитейших французских, немецких и английских старых и новых писателей, в отличных переводах. Железников извлек, так сказать, эссенцию из древней и новой философии, с применениями к обязанностям гражданина и воина, выбрал самые плодовитые зерна, для посева их в уме и сердце юношества. <…> Книга эта была для нас путеводительною звездою на мрачном горизонте и сильно содействовала умственному нашему развитию и водворению любви к просвещению»283.
Как ни странно это звучит, но следующим этапом развития литературных взглядов Булгарина были годы службы во французской армии (1811–1814), когда он странствовал по Европе, где много повидал, познакомился с французской и немецкой литературой и французским и немецким театром.
Наиболее близки ему были сатирики и авторы нравоописательных романов: Ф. Рабле, А. Р. Лесаж, М. де Сервантес. Он очень высоко ценил «Дон Кихота», считая, что это «образец сатирических романов и совершенство, в полной мере. <…> нравы приняли другое направление» под его воздействием284. Из англоязычных писателей он предпочитал Г. Фильдинга, Л. Стерна, В. Скотта, Ф. Купера и Дж. Г. Байрона, из немецких – Ф. Шиллера, И. Гете и Л. Тика. Высокого мнения он был о современных французских писателях: «гениальном Викторе Гюго»285, «гениальном Евгении Сю»286, «глубокомысленном и остроумном Карле Нодье»287, О. де Бальзаке, П. Мериме, А. де Виньи, Ж. Жанене.
Когда война закончилась, Булгарин оказался в Варшаве, а потом в Вильне, где находился знаменитый Виленский университет, известный своей высокопрофессиональной профессурой и журналистикой. Булгарин посещал университетские лекции, сблизился с университетскими преподавателями, был принят в Общество шубравцев, ставившее себе целью борьбу с пороками польской шляхты (расточительность, сутяжничество, страсть к карточной игре, пьянство и др.) и клерикализмом и выпускавшее остроумную сатирическую газету «Wiadomości brukowe» (Булгарин переводил ее название как «Площадные известия»). Булгарин был принят в это общество и печатался в его газете. Близкое знакомство с польской просвещенческой литературой (басни Адама Нарушевича, басни и романы Игнация Красицкого и др.) оказало сильное влияние на его эстетические взгляды288.
И, наконец, последний этап формирования его литературно-критических взглядов пришелся на конец 1810-х – начало 1820-х гг. С 1819 г. он жил в Петербурге, где вскоре вошел в литературную среду, сблизился с декабристами-литераторами – Бестужевым, Рылеевым, Корниловичем, Ф. Глинкой, а также с либерально тогда настроенным Гречем и с близким декабристам Грибоедовым. Декабристская установка на гражданственность литературы была усвоена Булгариным, и в дальнейшем он никогда от нее не отказывался.
Добавлю, что все это время Булгарин много читал на четырех языках: русском, польском, французском и немецком: литературные произведения, исторические труды, теоретические труды по литературе и литературную критику.
В результате он хорошо знал историю отечественной и европейской литературы и выработал собственную литературно-эстетическую программу. Нельзя сказать, что Булгарин внес какие-то новации в литературно-эстетическую теорию, но в российской критике он был достаточно оригинален.
Тогда в России были как эпигоны классицизма (А. Ф. Мерзляков, В. М. Перевощиков и т. п.), так и романтики (П. А. Вяземский, Д. В. Веневитинов, Н. А. Полевой), но и те и другие в центр своих размышлений о литературе ставили поэзию или драматургию. Дело в том, что русские романтики не были столь последовательны и радикальны, как немецкие и французские, в ряде аспектов они были зависимы от эстетики классицизма, которая исходила из иерархии жанров. Роман в этой иерархии занимал очень низкое место, поскольку авторитетные для классицистов теоретики либо не упоминали этот жанр (как Аристотель, Гораций), либо подвергали его критике (как Буало). Укоренение романа, не регламентированного никакими правилами, во французской литературе XVIII в. проходило с большими трудностями, поскольку его обвиняли в неправдоподобии, аморальности и нехудожественности: «В нем привыкли видеть <…> низкий, презренный жанр, предназначенный не для изысканного, просвещенного знатока, а для необразованного, неразвитого читателя, не гнушающегося столь примитивной духовной пищей <…>»289. Аналогичным образом относились к нему русские теоретики литературы конца XVIII – начала XIX в., например И. С. Рижский, А. С. Никольский, А. Ф. Мерзляков, Я. В. Толмачев290.
Булгарин же и в своей литературной практике, и в теории сделал акцент на прозе, особенно на романе. Хотя он начинал свой литературный путь со стихов (на польском языке; впоследствии он иногда писал и на русском) и нередко рецензировал поэтические произведения, но основу как его творчества, так и литературно-критической деятельности составляла проза.
В 1820–1830-х гг., поддерживая дружеские связи с писателями, принадлежавшими к лагерю романтиков (А. Бестужев, Рылеев и др.), Булгарин положительно отзывался о романтизме и испытывал его влияние. Он признавал, что «все изменяется: язык, словесность, образ мысли, образ жизни. <…> Все эти изменения производит любопытство посредством мысли». По его мнению, в России в XVIII в. образовалась французская школа в литературе, величайший недостаток которой – «совершенное отсутствие природы»291.
Булгарин критически отзывался о ряде положений классицизма:
Школяры и педанты, желая непременно держать умы в тисках вымышленных ими правил для каждого рода словесности, сколотили особые тесные рамочки и требуют, чтоб каждый писатель писал по их мерке. Отступить от этих правил почитается литературною ересью. Но откуда родились эти правила? Они составлены из сочинений авторов, которые писали, не зная других правил, кроме законов вкуса своего времени и своего народа, не зная других образцов, кроме природы. Другие времена, другие нравы. Но школяры, скованные в уме своем цепью предрассудков, непременно требуют, чтоб во все времена, у всех народов поэмы писаны были как во времена Гомера и Виргилия, оды по правилам Пиндара и Горация, трагедии по-расиновски, комедии мольеровским покроем, нравственные романы в виде задач292.
Особенно он отвергал наследие французского классицизма в драматургии, поскольку во французских трагедиях действие «обращается в весьма тесных пределах, сжато излишними приличиями, из которых французы составили себе мнимые законы», а герои их «все одинаково властолюбивы, одинаково влюблены, одинаково злы, несмотря на различие времен и народов»293. При этом он отнюдь не отвергал античную классику и полагал, что «без основательного изучения древних трудно сделаться великим писателем»294.
Впоследствии Булгарин вспоминал о себе: «Мы были одними из первых поборников школы романтической <…> школы гениальной, грамотной, благородной, освобожденной наконец от уз, наложенных на литературу так называемыми классиками, которые, не выразумев трех единств Аристотеля и греческих и латинских поэтов, заключили ум человеческий в тесные рамы школьных правил и условий»295. Но представления о романтизме у него были довольно расплывчатые. Так, он полагал, что романтическими произведениями являются такие, в которых изображены история народа, его нравы и обычаи296. Если подобным образом понимать романтизм, то его исторические романы «Димитрий Самозванец» и «Мазепа» и ряд исторических рассказов можно считать романтическими.
Но ни в теории, ни на практике последовательным романтиком он не был. Характерно следующее его заявление в середине 1840-х гг., когда бои классицистов и романтиков давно отшумели: «Хотя мы вовсе не принадлежим к безусловным приверженцам классицизма, однако ж крайне сожалеем, что романтическая школа не может до сих пор дойти до той чистоты и вместе с тем до той величественной простоты языка и слога и до того благородства в характерах и приличия в действиях, какими отличаются классические произведения. Романтические трагедии заманчивее завязкою, дают более простора действию, сильнее развивают страсти и глубже проникают в чувство <…>, но иногда, для ближайшего столкновения с природой, жертвуют изящным вкусом»297.
Причина подобной непоследовательности заключается в том, что Булгарин ориентировался на третье, гораздо менее изученное направление литературы – так называемый просветительский реализм. Для него характерны пристальное внимание к подробностям быта и образа жизни различных сословий, к обусловленности характера человека средой, социальными условиями, идея внесословной ценности личности. Авторы подобных произведений исходят из того, что люди могут избавиться от пороков посредством воспитания детей и просвещения взрослых, в частности через сатирическое осмеяние человеческих слабостей и недостатков298. Ключевые жанры просветительского реализма – плутовской роман, философско-сатирическая повесть, нередко в форме «восточной повести» (Вольтер, «Персидские письма» Монтескьё и т. п.), сатирическая антиутопия (Свифт) и нравоописательный очерк (Аддисон, Жуи и т. п.). Произведения этих жанров существовали и в русской литературе конца XVIII – начала XIX в., например повесть «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» М. Д. Чулкова (1770), романы «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» А. Е. Измайлова (1799–1801), «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Т. Нарежного (1814), восточные повести А. П. Беницкого (особенно следует отметить его «индийскую сказку» «На другой день» (1809), которую Булгарин не раз упоминал в печати), нравоописательные очерки П. Л. Яковлева, сатиры М. В. Милонова, басни Крылова и того же Измайлова, сатирические стихи А. Ф. Кропотова, с которым Булгарин был знаком и которого не раз вспоминал. В драматургии можно упомянуть «Бригадира» (1769) и «Недоросля» (1781) Д. Фонвизина, «Ябеду» В. В. Капниста (1798), «Неслыханное диво, или Честной секретарь» Н. Р. Судовщикова (1802), «Великодушие, или Рекрутский набор» Н. И. Ильина (1804).

