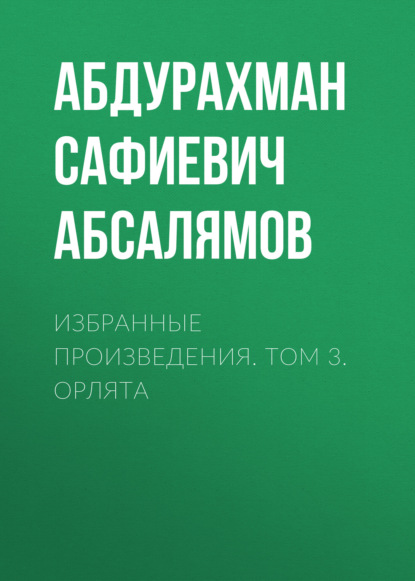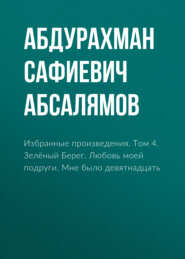По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные произведения. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Галим с Мунирой и не заметили, как остались вдвоём. После всех размолвок, что произошли между ними, они впервые оказались лицом к лицу. У каждого сердца своя боль. Мунира не могла забыть его оскорбительной самонадеянности, Галиму трудно было простить ей Кашифа.
Хотя чувство звало к примирению, но юношески настороженное самолюбие мешало сделать первый шаг.
Мунира, заметив на несущейся льдине прилаженное каким-то шутником огородное чучело в чёрной шляпе, невольно рассмеялась.
У Галима вдруг вспыхнули скулы.
– Это двойник того самого «салам-турхана», что с некоторого времени зачастил в ваш дом.
Улыбка мгновенно исчезла с лица Муниры.
– А ты что же, следишь за Кашифом? – спросила она.
Галим видел, как задрожали у неё уголки губ и крылья тонкого прямого носа, но он шёл напрямик:
– Нет, конечно. Просто я видел, что он опередил меня в тот вечер, когда ты попросила меня помочь по математике. Ты стояла у окна с книжкой в руках и потом пошла ему навстречу…
Огонёк недовольства в карих глазах Муниры смягчился.
– Значит, ты всё-таки приходил тогда?
И Мунира кончиками пальцев едва коснулась его руки, но Галиму мгновенно передалась искренность этого движения.
– Приходил, – сказал он, потупив глаза.
– Почему же не зашёл? А я ждала, ждала тебя.
– Так ведь к тебе Кашиф…
– А что Кашиф? Я его не звала и не сочла бы невежливым сказать, что он мешает нам работать.
В словах и в голосе Муниры прозвучала такая милая естественность, что обиды у Галима как не бывало. Легко и весело полились слова, захотелось движения, и он предложил Мунире вернуться трамваем в город, – там они покатаются на лодке по Кабану.
Трамвай мчался по пригороду Казани со смешным названием Бишбалта, что означает «пять топоров», потом по дамбе, которая соединяет слободу с городом. По обе стороны дамбы плескалась чистая волжская вода, проникшая сюда из реки Казанки.
Сойдя с трамвая, Галим и Мунира пошли вдоль Булака, широкого канала, прорытого ещё в петровские времена, и наконец добрались до берега озера Кабан, где на цепи качалась лодка. Галим засвистел. Мгновенно откуда-то – Мунире показалось, из подворотни – вынырнул мальчик с бритой головой.
– Мухтар, вынеси скоренько вёсла, – сказал ему Галим.
Мальчик исчез. Не прошло и минуты, как он появился с двумя самодельными вёслами на плечах.
– Смотри греби осторожно, я сегодня что-то боюсь воды, – сказала Мунира.
Галим обнадёживающе улыбнулся.
Мухтар оттолкнул лодку от берега. Галим сильными взмахами погнал её на середину озера, полного в эту пору вешней воды из Казанки и Булака.
Мунира не бралась за руль. Она опустила руку за борт, полощась пальцами в воде, как это любят делать дети. Огромное озеро меняло на глазах свою окраску – убывали голубовато-розовые тона заката, на них плотно ложился холодный графит, а другая половина Кабана уже отливала тусклым свинцом.
Подгоняемые весенним ветром, неторопливо плыли облака.
Галим повернул лодку, и перед Мунирой раскинулась верхняя часть Казани. Она как бы состояла из двух ярусов. Первый ярус начинался от самого берега озера, а второй – за улицами Свердлова и Баумана и поднимался по склону всё выше и выше. Новый, ещё в лесах, финансово-экономический институт на горном выступе как будто висел над городом. Левее виднелись окна верхних этажей университета, в двери которого когда-то юным студентом входил великий Ленин. Ещё левее, над крышами многочисленных домов, высились древние башни Кремля.
С детства знакомый пейзаж родного города! Но в этот тихий и прозрачный весенний вечер Казань была похожа на далёкий южный город, мирно покоящийся у синего моря.
– Я заметила, что, когда живёшь в городе изо дня в день, – негромко заговорила Мунира, – перестаёшь замечать его красоту. Мне иногда кажется, что красивые города где-то далеко, на солнечном юге, там, где я не бывала. Неужели, Галим, со стороны можно сильнее почувствовать красоту Казани?
– Я этого не думаю. Мне кажется… воспринять красоту… – Галим на секунду запнулся, – словом, дело не в том, откуда смотреть, а в том, чтобы у человека была любовь к красоте.
– Да, да, говоря философски, – слегка передразнила его лекторский тон Мунира и неудержимо рассмеялась.
– Напрасно ты иронизируешь… – начал было он.
– Ну не сердись…
– Больше не спорю, не спорю, Мунира.
У Ботанического сада лодка поплыла под узкими устоями моста.
– Как бы не перевернуться, – опасливо посмотрела на быстрину Мунира.
А Галим будто нарочно всё сильнее налегал на вёсла. Но и это не дало исхода бурлящей в нём радости. Тогда он запел, подражая модному тенору:
Я тонула в быстрой речке —
Руку протянул дружок…
Ты живёшь в моём сердечке,
Точно в цветнике цветок…
Возвращались уже в темноте. Откуда-то с берега доносились звуки гармоники. На Кабане мерцала лунная дорожка, Галим держал по ней лодку.
Мунира любила первые июньские дни. Выедешь за город – от утренней и до вечерней зари всё поёт и ликует. Во ржи судачат перепела, где-то застенчиво щебечут воробьи. Вдоль Казанки луга пестреют душистыми фиалками, одуванчиками в пуху, болотными травами. Пчёлы одна перед другой торопятся собрать мёд с цветов. Уже показались в берёзовой роще белоснежные цветы земляники. Заливаются, свищут, щёлкают соловьи. Из Ботанического сада доносится отрывистое кукованье, сердито скрипят коростели в болотах Адмиралтейской слободы.
11
Но в этом году Мунира и не заметила начала июня. С утра – школа. После уроков, не задерживаясь, она спешила домой, убирала квартиру, готовила обед и снова садилась за книги. Предстояла серьёзная проверка знаний за всю десятилетку.
И только поздно вечером, когда мать возвращалась из райкома, они за чашкой чая делились своими новостями, которых у Суфии-ханум было, конечно, гораздо больше, чем у дочери.
«Позавидуешь, сколько людей знает и видит мама. Наверное, самая трудная и вместе с тем самая увлекательная наука в мире – это наука о людях. В каждом человеке есть что-то неповторимое, особое, только ему присущее. Хорошо бы быть партийным работником», – думала Мунира, жадно расспрашивая Суфию-ханум.
Недавно в газете она читала об отце Галима, сменном мастере Рахиме-абзы Урманове.
– Не пойму, мама: что же он сделал такого замечательного?
– Видишь, партия всегда помогает людям, которые смотрят вперёд и болеют за общее дело. Я была в цехе Рахима-абзы; у него чистота и порядок – душа радуется. Этот старый мастер не побоялся даже испортить отношения с начальством и первым поднял на заводе вопрос о том, что мастера надо освободить от беготни по любому поводу. Каков мастер, таков и цех, говорят рабочие.
И это правильно. Мастер следит за дисциплиной, за техническим процессом… Понимаешь?
А Муниру интересовало уже другое:
Хотя чувство звало к примирению, но юношески настороженное самолюбие мешало сделать первый шаг.
Мунира, заметив на несущейся льдине прилаженное каким-то шутником огородное чучело в чёрной шляпе, невольно рассмеялась.
У Галима вдруг вспыхнули скулы.
– Это двойник того самого «салам-турхана», что с некоторого времени зачастил в ваш дом.
Улыбка мгновенно исчезла с лица Муниры.
– А ты что же, следишь за Кашифом? – спросила она.
Галим видел, как задрожали у неё уголки губ и крылья тонкого прямого носа, но он шёл напрямик:
– Нет, конечно. Просто я видел, что он опередил меня в тот вечер, когда ты попросила меня помочь по математике. Ты стояла у окна с книжкой в руках и потом пошла ему навстречу…
Огонёк недовольства в карих глазах Муниры смягчился.
– Значит, ты всё-таки приходил тогда?
И Мунира кончиками пальцев едва коснулась его руки, но Галиму мгновенно передалась искренность этого движения.
– Приходил, – сказал он, потупив глаза.
– Почему же не зашёл? А я ждала, ждала тебя.
– Так ведь к тебе Кашиф…
– А что Кашиф? Я его не звала и не сочла бы невежливым сказать, что он мешает нам работать.
В словах и в голосе Муниры прозвучала такая милая естественность, что обиды у Галима как не бывало. Легко и весело полились слова, захотелось движения, и он предложил Мунире вернуться трамваем в город, – там они покатаются на лодке по Кабану.
Трамвай мчался по пригороду Казани со смешным названием Бишбалта, что означает «пять топоров», потом по дамбе, которая соединяет слободу с городом. По обе стороны дамбы плескалась чистая волжская вода, проникшая сюда из реки Казанки.
Сойдя с трамвая, Галим и Мунира пошли вдоль Булака, широкого канала, прорытого ещё в петровские времена, и наконец добрались до берега озера Кабан, где на цепи качалась лодка. Галим засвистел. Мгновенно откуда-то – Мунире показалось, из подворотни – вынырнул мальчик с бритой головой.
– Мухтар, вынеси скоренько вёсла, – сказал ему Галим.
Мальчик исчез. Не прошло и минуты, как он появился с двумя самодельными вёслами на плечах.
– Смотри греби осторожно, я сегодня что-то боюсь воды, – сказала Мунира.
Галим обнадёживающе улыбнулся.
Мухтар оттолкнул лодку от берега. Галим сильными взмахами погнал её на середину озера, полного в эту пору вешней воды из Казанки и Булака.
Мунира не бралась за руль. Она опустила руку за борт, полощась пальцами в воде, как это любят делать дети. Огромное озеро меняло на глазах свою окраску – убывали голубовато-розовые тона заката, на них плотно ложился холодный графит, а другая половина Кабана уже отливала тусклым свинцом.
Подгоняемые весенним ветром, неторопливо плыли облака.
Галим повернул лодку, и перед Мунирой раскинулась верхняя часть Казани. Она как бы состояла из двух ярусов. Первый ярус начинался от самого берега озера, а второй – за улицами Свердлова и Баумана и поднимался по склону всё выше и выше. Новый, ещё в лесах, финансово-экономический институт на горном выступе как будто висел над городом. Левее виднелись окна верхних этажей университета, в двери которого когда-то юным студентом входил великий Ленин. Ещё левее, над крышами многочисленных домов, высились древние башни Кремля.
С детства знакомый пейзаж родного города! Но в этот тихий и прозрачный весенний вечер Казань была похожа на далёкий южный город, мирно покоящийся у синего моря.
– Я заметила, что, когда живёшь в городе изо дня в день, – негромко заговорила Мунира, – перестаёшь замечать его красоту. Мне иногда кажется, что красивые города где-то далеко, на солнечном юге, там, где я не бывала. Неужели, Галим, со стороны можно сильнее почувствовать красоту Казани?
– Я этого не думаю. Мне кажется… воспринять красоту… – Галим на секунду запнулся, – словом, дело не в том, откуда смотреть, а в том, чтобы у человека была любовь к красоте.
– Да, да, говоря философски, – слегка передразнила его лекторский тон Мунира и неудержимо рассмеялась.
– Напрасно ты иронизируешь… – начал было он.
– Ну не сердись…
– Больше не спорю, не спорю, Мунира.
У Ботанического сада лодка поплыла под узкими устоями моста.
– Как бы не перевернуться, – опасливо посмотрела на быстрину Мунира.
А Галим будто нарочно всё сильнее налегал на вёсла. Но и это не дало исхода бурлящей в нём радости. Тогда он запел, подражая модному тенору:
Я тонула в быстрой речке —
Руку протянул дружок…
Ты живёшь в моём сердечке,
Точно в цветнике цветок…
Возвращались уже в темноте. Откуда-то с берега доносились звуки гармоники. На Кабане мерцала лунная дорожка, Галим держал по ней лодку.
Мунира любила первые июньские дни. Выедешь за город – от утренней и до вечерней зари всё поёт и ликует. Во ржи судачат перепела, где-то застенчиво щебечут воробьи. Вдоль Казанки луга пестреют душистыми фиалками, одуванчиками в пуху, болотными травами. Пчёлы одна перед другой торопятся собрать мёд с цветов. Уже показались в берёзовой роще белоснежные цветы земляники. Заливаются, свищут, щёлкают соловьи. Из Ботанического сада доносится отрывистое кукованье, сердито скрипят коростели в болотах Адмиралтейской слободы.
11
Но в этом году Мунира и не заметила начала июня. С утра – школа. После уроков, не задерживаясь, она спешила домой, убирала квартиру, готовила обед и снова садилась за книги. Предстояла серьёзная проверка знаний за всю десятилетку.
И только поздно вечером, когда мать возвращалась из райкома, они за чашкой чая делились своими новостями, которых у Суфии-ханум было, конечно, гораздо больше, чем у дочери.
«Позавидуешь, сколько людей знает и видит мама. Наверное, самая трудная и вместе с тем самая увлекательная наука в мире – это наука о людях. В каждом человеке есть что-то неповторимое, особое, только ему присущее. Хорошо бы быть партийным работником», – думала Мунира, жадно расспрашивая Суфию-ханум.
Недавно в газете она читала об отце Галима, сменном мастере Рахиме-абзы Урманове.
– Не пойму, мама: что же он сделал такого замечательного?
– Видишь, партия всегда помогает людям, которые смотрят вперёд и болеют за общее дело. Я была в цехе Рахима-абзы; у него чистота и порядок – душа радуется. Этот старый мастер не побоялся даже испортить отношения с начальством и первым поднял на заводе вопрос о том, что мастера надо освободить от беготни по любому поводу. Каков мастер, таков и цех, говорят рабочие.
И это правильно. Мастер следит за дисциплиной, за техническим процессом… Понимаешь?
А Муниру интересовало уже другое: