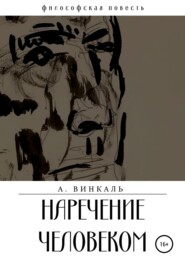По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Angst
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
II
Покидая уборную, Тан зацепился за ручку двери, больно ударившись костяшкой руки. На коже появился взбухающий бугорок крови. «Мерзость», – Тан ощутил пощипывание, вскоре сменившееся нестерпимой чесоткой. Со всего размаху он уперся крепко сжатым кулаком в стену. В туалетной кабинке кто-то громко ахнул. «Я не могу терпеть. Мне неприятно. Невозможно отстраниться от тела, когда только через него и живешь. А порой ты будто не в своей тарелке: где-то зудит, что-то саднит, отчего-то нарывает кожица на кисти руки», – он поморщился и, выйдя в зал кафетерия, занял свое прежнее место.
Ровно год тому назад Тан сидел за этим же точно столом. Он чересчур явно тогда ощутил себя видящим и слышащим в толпе сторонних и непонимаемых им людей. Толпа! – раз стол, два стол, три стол – все стулья заняты. А что делать ему? Окружающие смотрят. А ему? Ему тоже смотреть? Это, видимо, связано с тем, что он видит. И видит-то он не как все: особенно смотрят его глаза, откуда-то из глубины него смотрят и даже как бы и не смотрят, а рисуют ему картину. На мгновение Тан до ужаса перепугался необъяснимой тревоги, схватился было за нож, но взгляд его зацепился за миловидную девушку, входящую в это время в двери кафетерия. Дыхание перехватило еще сильнее, зато переменившаяся обстановка позволила ему немного прийти в себя. Он постарался расслабиться, растекся по стульчику и стал внимательно наблюдать за ней. «Привлекает! И страшит», – как бы опомнился молодой человек. Светловолосая, с задранным кверху носиком, на высоких каблуках и туго затянутым в поясе платьем, она, к большому удивлению Тана, сама повернулась в его сторону и игриво подмигнула.
– Знаешь ли, что спасла ты меня тогда? – говорил он после Эре.
– Как же, как же? – улыбалась она, отлично понимая то, о чем хотел в очередной раз сказать ее возлюбленный.
– А так и спасла: я был в шаге от того, чтобы всадить в себя прибор – столовый нож, кажется, с закругленным концом такой – прямо между ребер. Тяжело мне дышалось, понимаешь, особенно тяжело, не как прежде, нестерпимо дышалось. Знаешь, как дышалось? Так… – он делал обрывающийся вдох и выдыхал, затем начинал ртом глубоко заглатывать в себя воздух – Эра смеялась, обнимала Тана и заливалась слезами. – Потеряю, вот-вот потеряю себя, – продолжал с надрывом шептать ей на ухо Тан, – потеряю, казалось. А нет, не потерял. Ты тому виновница или нет, не знаю.
Позже Тану стало казаться, что вовсе это не так, что Эра – жуткое ненастье, забравшееся в его жизнь ради терзаний. «Ты мучишь, мучишь меня! – кричал он по утрам в приступе гнева. – Видишь, как я растерян, по частям растерян – собирай не хочу. Но что делаешь ты? Хоть пальцем ко мне прикоснись, убереги мою целостность или раздави уж навсегда! Не ты, так я сделаю это: но к чему тогда ты мне? – замах, еще один. – Куда мне деться? Ведь я сейчас куда-то да денусь: не могу более терпеть свое. Свое!»
«Ты не бессилен перед лицом себя», – настаивала Эра, однако пальцем не трогала Тана.
Когда настали сумерки, он расплатился за ужин, встал и вышел продышаться на бульвар, хотя желания было мало. Лучше бы ему, конечно, так и сидеть в растерянности или, если уместно, в состоянии ступора – так и переживается все легче, и жизнь течет плавнее. Обстоятельства заставляют двигаться, вынуждают делать новые шаги, несносные человеку, ненавидящему ходьбу и любую затрату сил, изнуряющую организм, сводящую его на нет – Тан полагал, что и сам с этим прекрасно справляется, и внешнее вмешательство нежелательно. Он направился к набережной, взобрался на мост и стал оттуда глядеть на проплывающие туристические лодочки. Лодочки чудились крохотными, невзрачными, а фигурки людей на них еще меньше. Казалось, их, как насекомых, можно всех сейчас переловить руками, сжать в кулаках и разбросать по сторонам. «Редко я чувствую себя большим и высоким», – подумал Тан.
Эра стеснялась Тана при других, лишь изредка появляясь с ним на людях. Обыкновенно бледный, загнанный мыслями в тупик, он оставался наедине с собой, когда девушка выходила к гостям: в своем доме, в чужом, в парке, в кафе или еще каких заведениях – не имело разницы. Она прятала его у себя «за спиной», стыдясь болеющего, неудовлетворенного тела, словно Тан только им и был. Унизительно, пренебрегающе обращались с ним на высших ступенях человеческой коммуникации, и он отыгрывался тогда, когда Эра снисходила до него, возвратившись домой. Размазанная по стенке клякса из сухожилий, вен, набухших сосудиков и капилляров разражалась над ней чернильной грозой. Забрызгав живое, дышащее личико, клякса рассеивалась, и вот уж показывалось нечто человеческое на ее месте, хотя больше схожее с насекомообразным существом. Эра обмакивала свои пальцы в растекшуюся лужу, ласкала, касалась губами, сочувственно улыбаясь – тогда перед ней возрастал человек. Забота притворщицы. Перед очередным уходом Эры у стенки вновь возникал подтек.
Ночная сорочка ее отдавала особой женственностью – материнской. Смытый макияж, чистое и девственное лицо напоминали Тану его мать. Впервые, когда к нему пришло осознание этой стороны его привязанности к Эре, он пришел в оцепенение от мысли, что способен в посторонней, желанной женщине любить собственную матерь. Тан прижимался, забывался сладким запахом тела Эры, к вечеру становившегося необыкновенно нежным, ласковым. И сколько же в этой нежности было нравного, свободного, способного успокоить сильное болезненное переживание человека, на следующее утро, увы, сменяющееся черствым тоном осуждения. Тоном, приводящим в исступленное смятение Тана. Его разум всячески старался перебороть это смятение, замять и скрасить напряжение. Каждый день Тан ласкался к любимой и каждый день в беспомощности прикладывал к ней силу. Выходит, силу он черпал откуда-то изнутри, из какой-то такой точки, которой вовсе и не существовало в его человеческой натуре.
Излишне тесный телесный контакт стал удерживать Эру при Тане. Она никак не хотела прийти к той мысли, что ее, высокую и сильную, влечет насилие над собственным телом. Тану вспомнился ее ночной рассказ. «Я повредила руку, – шептала Эра ему на ухо, когда тот укладывался в постель, и, задрав рукав, показывала порез. – Представляешь, это не ты, я сама. А зачем? Тан, послушай, а вдруг… а что, если я хочу…» Тан слабо улыбался и обнажал свою талию, где не было ни единого живого места. Эру бросало в жар, она глотала воздух и, отшатнувшись, выбегала из комнаты…
III
В поздний вечер набережная пустовала. Тан спустился к бульвару. Он нащупал в правом кармане своих вельветовых штанов затерявшуюся сигарету: достал, порассматривал, окликнул одинокого прохожего. В желудке продолжал урчать ужин. Сигарета задымилась – Тан, поднеся замерзшие пальцы рук ко рту, глубоко затянулся дымом, затем еще и еще, сглатывая и не выпуская его наружу своего тела. Голова загудела. Где-то ниже бедер мышцы стали слабеть (сказался недавний прием таблеток), и он еле удержался на ногах – пища попросила вернуть себя на место. Сутулая спина его подогнулась, он, минуя набережную, бульвары, метнулся в какой-нибудь глухой закоулок, где бы его никто не смог застать за пренеприятным занятием очищения. Улицы, словно нарочно, разродились вдруг толпами людей, повылезших из домов. Слабенькая фигура Тана затряслась, забилась к стене кирпичного здания, не найдя себя приюта, и грубо опрокинулась на землю. Горло его закипело переваренными остатками пищи, выбрасывая их один за другим на асфальт. Сознание подернулось слабой дымкой, через которую ему едва удалось ощутить чьи-то легкие, нежные прикосновения. Зловонием рта наружу он обернулся и нос к носу столкнулся с Эрой. Она, как и прежде, слушала тоску его грустными глазами. Слушала – не слышала.
– Зачем ты тут? – Тана обуял страх. Снова он видел сострадание, не мог наглядеться на него, впитывая его через кожу нетрезвым сознанием. – Мне нельзя, нельзя, я сам!
– Ты сам, – отвечало жалостливое выражение лица девушки. – Я здесь случайно, меня ждут, я скоро уйду.
Прохожие не останавливались, метались толпой из одной половины улицы в другую, как вихрь в морозную погоду. Казалось, это они зарывались внутрь Тана, а затем выметались из него болезненными хрипами, растекаясь по земле и переулкам грязной лужей. Легкие стонали, останавливались, не хотели, не впускали воздух.
Постепенно голова стала проясняться. Отираясь поданным платком, Тан поднялся с колен.
– Все так же не любишь тело? – с ноткой сухого сожаления прозвучал ее голос.
– Не могу.
– И мое никогда не мог. Не позволял себе.
Слова Эры больно защемили в груди; нарядно одетая, с подкрашенными темной тушью веками, с завитыми каштановыми кудрями, чистая, аккуратная Эра не желала даже коснуться губами попачканного собственными отходами Тана.
– Но разве ты не то же обличие, что и я?
Она отрицательно качала головой:
– Ты наедине с собой неизменно.
Неизменно он живет телом и через тело. Даже неясно, есть ли это тело у него или данные кем-то свыше ощущения входят в его Я поэтапно, естественным непосредственным образом, с каждым новым мгновением. Он же чувствует, как с каждым годом взросления ему становится все теснее и удушающе тошно жить, и одно лишь возрастающее сознание, помогающее претерпеть дискомфорт, позволяет верить и уповать на освобождение.
Мерзок был для него период раннего пубертата, воспоминание о нем: когда ему минуло двенадцать лет, мать по старой привычке продолжала укладывать его в постель, ласково обнимая и целуя низ живота. Каково же было его смятение в ту минуту, как она коснулась вместо маленького детского пупка чего-то неподатливого, затверделого и туго натянутого. Никто из них двоих не подал виду, однако прежняя невинность была покалечена. Через его вину, стыд перед матерью порочность как бы вошла в мир: мир покоя и родительского уюта. Тогда впервые он явственно понял свою телесность, свою чувственность, пережив предательство со стороны природы и последующее за ним чувство непомерного одиночества. «Ты наедине с собой неизменно»,– с кем же ему еще быть, как не с собой. Вот он я, корчусь, изнемогаю. Я и есть развращение мира, но раз я таков, то уж точно в этом не повинен.
Тан уткнулся намокшим от начавшегося дождя лбом в стену:
– Как с этим, – он саданул себя в грудь, – можно жить?
Эра поцеловала его; через силу, отворачивая и зажимая пальцами нос, поцеловала. Материнским поцелуем.
– У нас могли бы быть дети, Эра. Иначе для чего еще с этим жить, как ни ради того, чтобы… продлевать себя.
– Мне страшно видеть ребенка, похожего на тебя.
– Но ведь я – это всего лишь я, но образ, который я ношу, обширнее, сильнее, и для того я обрекаюсь телом, дабы продолжать этот образ как можно чаще, как можно больше. Потому-то я и должен любить тебя. Только так существуешь, только так смерти нет.
Устало прикрывая лицо ладонью, Эра уже не смотрела на него, а упиралась взглядом в стены домов. Она уносилась мыслями туда, где ее ждали.
– А я и не люблю, представляешь, каково мне? – продолжал Тан. – Значит, я верю в смерть и боюсь. Знала бы, как боюсь! Останься, Эра, мы запечатлеем образ в тебе, и станет он на ноги, и оживет, взыграет. Без тебя я закончусь, с тобой – никогда.
– Тем временем я тороплюсь. Меня все еще ждут, Тан.
– А в чем такая особая полнота этого другого, ждущего тебя? Чего в нем такого больше, что с ним ты готова забываться и верить в жизнь, а со мной – нет? Молчишь.
IV
Он отыскал полуразвалившуюся лавочку в тени переулка, незаметную для городских приставов, и улегся на нее животом кверху. Ему виделось небо. Высокое, ночное, сверху донизу покрытое пеленой мерцающих звезд небо громоздко возвышалось над морем, по которому он плыл. Тан с усердием греб руками, расталкивая в стороны окружавший его морской сор, в виде водорослей, древесных палок, остатков птичьего помета и прочего. Он ощущал на себе давление властного темнеющего небосвода и все устремлялся куда-то вдаль. Если бы мог – о, если бы мог – он бы воспарил над водой, растворился бы в воздушных потоках: став ветром, разогнал бы силой, расчистил бы морскую поверхность от сора. Но он не мог вознестись выше себя, а потому продолжал грести. Наконец показался край. Сложно обрисовать в словах то, что невозможно себе представить: перед Таном оказалось что-то вроде водопада, обрушивающегося каскадами в пустоту. Тан на мгновение содрогнулся; потоки воды срывались с кромки земного материка в никуда, с легкостью разлетались брызгами по ничем не заполненному пространству. Сорваться с этого края, сгинуть и почувствовать свободу и облегчение – вот высшая награда его пути. Но Тан испугался. Его вдруг одолело сильное головокружение, в глазах помутнело.
Когда он открыл их, над ним все также простиралось ночное небо. В течение нескольких минут Тан судорожно соображал, где находится, и лишь потом заметил, как вцепился пальцами в борта лавочки, на которой лежал. Он тяжело вздохнул. В груди что-то сдавливало, не позволяя со спокойной душой отпустить пережитое. Тан обнажил свою талию: «Через такую мелочность – и не быть?»
…Эру бросало в жар, она глотала воздух и, отшатнувшись, выбегала из комнаты. Она смеялась.