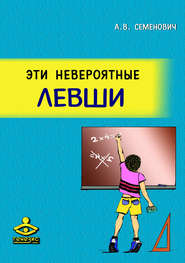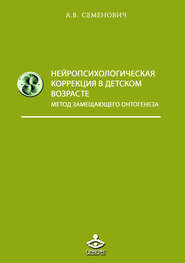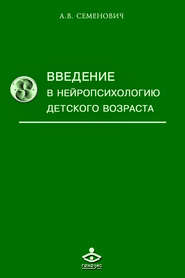По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В лабиринтах развивающегося мозга. Шифры и коды нейропсихологии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
• Фактор может выступать и как фигура, и как фон; быть более или менее сложно организованным. Обладает, по преимуществу, статическими (например, объем восприятия) или, напротив, динамическими (например, мануальная или речевая кинетика) характеристиками. Характеризуется более или менее выраженной компонентой врожденной заданности и/или зависимости от обучения. Например, кинестетический или нейродинамический факторы, очевидно, менее зависимы от обучения, чем фонематический слух, а тем более – факторы номинации или произвольной саморегуляции. Следовательно, различные факторы обладают организацией разной степени сложности.
Итак, фактор – системно-динамический психологический процесс и результат комплементарности, изоморфности определенных свойств и паттернов мозга (и шире – нейросоматической организации) человека определенным свойствам и паттернам его внутренней и окружающей среды. Это – единица психической деятельности определенных зон и систем мозга, отражающая (и описывающая) указанный процесс и его результат.
Всякий раз, когда вовне или внутри организма (на любых отрезках данного конкретного онтогенеза) появляется принципиально новая информация, нервная система инициирует поиск путей ее идентификации. Этот механизм, с очевидностью, реален только на основе памяти. В результате:
– либо используется уже имевшаяся когда-то и закрепленная генетически фило-и/или историогенетическая программа такой «трансакции»;
– либо строится новая, за счет переструктурирования уже имеющихся (но инактивных) паттернов;
– либо путем экспансии вовне интериоризируется тот или иной извне заданный социокультурный паттерн: этот процесс возможен только как интеграция, надстройка на фундаменте уже существующих паттернов мозга.
Следовательно, принципиально у человека имеется два основных путы диалога с новой информацией:
1) его собственные системы коадаптации (адаптивные ресурсы, связанные исключительно с внутренними возможностями организма, прежде всего – нервной системы);
2) использование культурно-исторического опыта; то есть, в сущности, опосредствованная речью (сначала – другого, а затем своей собственной) перестройка врожденных механизмов коадаптации. Взаимообусловливающее единство этих двух процессов и является психологическим онтогенезом человека во всех возрастах. А психологический онтогенез – это, в основе своей, факторогенез.
Поражение или несформированность того или иного фактора приводит к дизадаптации – различным формам психологической дисфункции разной степени выраженности: от нижненормативных до патологических. При этом на первый план вначале может выступать какой-то один патофеномен (психический, соматический или нейробиологический). Но затем ситуация приобретает все более генерализованный, системный характер.
Возможность планомерного, упорядоченного во времени развития и устойчивого состояния факторной организации психологических систем предопределена генетически. Она задана у человека врожденными моделями поведения, которые активизируются только благодаря контактам с внешним миром, выступающим в роли триггера («курка», пускового механизма). Врожденными и крайне индивидуализированными в каждом конкретном случае являются соответственно и пороги, допустимые значения крайних (положительных и отрицательных) показателей, и его динамические характеристики.
В миру эти пороги обозначаются формулой: «выше головы не прыгнешь», «не дано». Это, безусловно, отражает реальность, поскольку «нижняя и верхняя планки» потенциальной способности к чему бы то ни было (музыкальный слух или объем памяти, пластичность или зависимость, агрессивность, научаемость или сексуальность) у каждого из нас заданы от рождения. Так же задан и удельный вес каждого из перечисленных аспектов в целостном индивидуальном нейропсихологическом статусе.
Но реализация его абсолютно зависима от внешних воздействий. Более того, существует определенная (и достаточно богатая) возможность направленного формирования и абилитации отдельных факторов. Но все же их генетически заданные границы – достаточно устойчивый и консервативный механизм. Это – один из базовых аспектов системно-динамической мозговой организации психической деятельности. Если бы его не было, не пришлось бы нам сегодня ломать голову над проблемами отклоняющегося развития: любой пре- и/или перинатальный дефицит компенсировался бы без особых видимых осложнений.
То, что фактор является врожденным механизмом, то есть эволюционно одобренным конструктом поведения человека, подтверждается одним неопровержимым доводом. Практически у всех правшей, а они составляют подавляющее большинство человечества, его мозговая организация и соответственно синдромоорганизующая функция идентичны. Сенсорная афазия, связанная с патологией фактора фонематического слуха, всегда возникает при поражении задних отделов левой височной области и актуализируется в принципе одинаково: в литеральных парафазиях, словесной окрошке, отчуждении смысла слов и т. п., обнаруживаясь во всех формах речи (устной, письменной, чтении). Полевое поведение (нарушение факторов программирования и контроля) – патогномонично для лобного синдрома, а дефицит реципрокной координации (фактор межполушарного взаимодействия в кинетическом праксисе) – для дефицита передних отделов мозолистого тела.
Собственно, на этом и построена вся многовековая диагностика, коррекция и реабилитация не только в неврологии, нейропсихологии, логопедии и т. д., но и в психиатрии. Ведь при всех возможных гипотезах о сущности отклоняющегося поведения лечат этих больных совершенно определенными лекарствами, мишенью которых являются конкретные мозговые (и, шире, нейросоматические) системы, имманентно связанные с продуцированием конкретных психопатологических симптомов и синдромов. И доказательство от обратного: если эти закономерности не учитываются, имеет место то, что именуется «побочными (непрогнозируемыми, парадоксальными) эффектами».
Упомянем еще одну важную деталь понятийного аппарата нейропсихологии. Фактор – это нормативное звено, аспект психической функции или процесса; этот термин имеет исключительно «+» – звучание. Когда же мы говорим о патологии (дизонтогенезе, дизадаптивных состояниях), следует употреблять эпитеты «пораженный (дефицитарный, несформированный и т. п.) фактор» или «недостаточность (патология, незрелость и т. п.) фактора», иными словами – терминологически придавать сказанному «–» – звучание.
На сегодняшний день не существует какого-то единственного языка описания фактора, поскольку и функционально, и процессуально он существует на всех обозначенных уровнях и стадиях реализации (в статике и динамике). Выступает в едином потоке поведения человека то как фон, то как самостоятельная фигура, и (по аналогии с физическими реалиями) как квант, и как волна. Он может быть полноценно описан только через взаимодействие различных языков, отражающих его сущность как:
– отдельного функционального звена психической деятельности (фонематический слух, объем памяти, координатные представления и т. д.);
– специфической функции, индивидуального таланта определенной зоны мозга;
– паттерна соматических, био- и физико-химических процессов клеточного и молекулярного уровней, активности нейронных колонок, сетей и узлов, реализующегося в определенной форме психической активности.
В русле этой логики очевидно, что мозг не является материальным субстратом идеального психического. Хотя известно, что именно этот тезис долгое время был одновременно и точкой отсчета, и камнем преткновения в разгадке проблемы «душа – тело».
Во-первых: «психическая деятельность» = «психическая деятельность мозга». А еще точнее – психическая деятельность нашей нейросоматической системы. Нейросоматическая система = тело: системно-иерархическая интеграция прежде всего нервно-соединительнотканных процессов; совокупности нейронов, гормонов, клеток мышц, крови и т. п. Или в другой системе координат: рук, мозолистого тела, желудка и т. д. Ни в каком другом виде понятие «психическая деятельность», строго говоря, не имеет смысла, так как не существует в реальности. Точнее, существует в виде готового продукта: книг, вещей, рекламы, пиар-технологий, и т. д. Перечисленное – результат деятельности нашего или чьего-то мозга.
Во-вторых, все время совершается логическая подмена (реверсия). Дело в том, что не мозг – материальный субстрат идеальной психики, а психика – материализация нейросоматических процессов невообразимой сложности. И реализуется она на разных уровнях: в форме рефлексов, инстинктов, вегето-висцеральных реакций, высших психических функций (ВПФ) и т. д.
Чего мы действительно не знаем и, боюсь, не узнаем по-настоящему в обозримом будущем – так это истинного содержания именно внутренних нейросоматических, в частности, мозговых процессов. Мы пытаемся их описать, но это наше понимание, целиком зависящее от наших инструментов. Сначала был изобретен микроскоп, энцефалограмма, потом – компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс и т. д. И мы узнали о наличии (строении) нейрона, потом медиаторов; открыли «расщепленный мозг» и «зеркальные нейроны». Перечисленное – гениальные прозрения ученых. Но это наши идеальные модели, частично описывающие тот или иной аспект, строение, механизм работы мозга. То есть, не объективно существующую реальность, а ту ее часть, которая нами «увидена».
«Сознания без мозга не существует, а без поведения его невозможно распознать» – в этом тезисе X. Дельгадо содержатся, по сути, все ключевые понятия, овладение которыми обязательно для профессионального нейропсихологического минимума. Необъятные интимные мозговые механизмы видны ровно настолько, насколько они зафиксированы объективными методами или реализованы в поведении, тех или иных формах психической деятельности в норме и патологии. Поэтому психолог, не знающий клиники (хотя бы из книг) – некорректно работающий психолог. Ведь в норме многие психологические феномены просто не видны. Сказанное в полной мере относится и к соматическим процессам. Точнее – к нейросоматическим, поскольку денервированное (то есть лишенное нервного обеспечения) тело – набор неподвижных органов, мышц, костей и т. д.
Безусловно, Океан С. Лема – изумительная метафора работы мозга, точнее, запредельных и таинственных источников его активации и самоактуализации. Мозг необъятен, подчас ужасен в своей загадочности и действительно непознаваем; во всяком случае, в обозримом будущем. В Ватикане на центральной фреске Сикстинской капеллы «Сотворение мира» Творец изображен в «плаще», подобном контурам мозга. Возможно, это моя профессиональная проекция. Допускаю. Но Микеланджело знал анатомию лучше любого из нас, а в его способностях изображать именно то, что он хотел, надеюсь, никто не сомневается. Кроме того, он был членом тайного эзотерического общества – научной элиты того времени: магистрами тамплиеров были также Леонардо да Винчи, Ньютон и др.
Материальным субстратом психического является информация. А излюбленная публицистами метафора «мозг=компьютер» имеет право на существование, но в формулировке: «коммуникации человека=компьютер». Энергоинформационные свойства среды взаимодействуют с аналогичными по внутреннему строению энергоинформационными свойствами организма человека. Центральная регуляция этого процесса осуществляется мозгом, который обеспечивает эти коммуникации при посредстве психологических факторов. Внешний мир, тело и мозг, таким образом, переговариваются и договариваются между собой на одном языке. Точнее, привлекая универсальных переводчиков – факторы, которые сформировались в течение филогенеза и формируются в каждом конкретном онтогенезе на базе генетической памяти и обучения.
Основная функция, а следовательно, цель и задачи нейропсихологии – синдромный анализ (выявление, описание и квалификация) психологического статуса человека. Результат – констатация закономерностей его мозгового обеспечения в норме, субнорме и при патологии; на разных отрезках онтогенеза. Этот процесс инвариантно реализуется в форме «синдрома». К. Левин говорил: «…Закон представляет собой не что иное, как описание определенного кондиционально-генетического типа процесса или состояния». Синдромология=свод законов, который подчиняет себе, регламентирует логику нейропсихологический работы (диагностической, коррекционной, абилитационной и т. д.).
Аппаратное обеспечение синдромного анализа – строго регламентированные психические нагрузки, своего рода «сканеры» мозговой организации ВПФ – нейропсихологические методики (пробы). Они всегда дополняются методами исследования, позволяющими дифференцировать, квалифицировать и оценить «локальную», «общемозговую» и «общепатогенетическую» (по Шмарьяну) составляющие психологического статуса в норме и при патологии.
Очевидно, что единственно валидной, надежной и информативной моделью при этом является очаговая мозговая патология. Полученные в ходе клинико-психологических исследований данные – база для внедрения нейропсихологического метода в обсуждение широкого круга феноменов поведения.
В заключительной части книги мы рассмотрим фабулу синдромного анализа: от описания нейропсихологического синдрома к созданию адекватной именно ему коррекционной модели. Здесь же ограничимся констатацией: главным инструментом синдромного анализа является фактор. Он инвариантно заложен в фундамент экспериментальных нейропсихологических методик. Любая из них ориентирована на идентификацию конкретных звеньев изучаемой психической функции – факторов. Они же являются несущей осью, базовыми критериями нейропсихологической типологии при патологии и в норме (варианты отклоняющегося развития, индивидуальных различий и т. д.). Собственно, открытие А.Р. Лурия этого закона – локализации в мозге психологического фактора, а не целостной функции – и привело закономерно к созданию уникальной теории синдромного анализа, краеугольного камня общей нейропсихологии, теории нейропсихологической реабилитации, нейропсихологии детского возраста и возраста инволюции.
Нейропсихолог всегда «ищет» фактор – базовый механизм нейропсихосоматического взаимодействия, обеспечивающий человеку адекватные коммуникации, трансакции с собой и миром. Или, напротив (в случае поражения и/или несформированности), препятствующий таковым. В этом понятии заложено множество сценариев адаптации человека как целостной системы к тем или иным отдельным свойствам его внешней и/или внутренней среды. Ведь каждая психическая функция, меж- и надфункциональные альянсы включают многие факторы. В более узком смысле фактор исследуется как единица мозговой организации психических функций и процессов. Этот объект всегда в явной или неявной форме рассматривается в развитии.
Проводя обследование, нейропсихолог ориентирован на исследование всех факторов, входящих в состав той или иной психической функции. Например, в речи базовыми факторами являются: фонематический слух (речевое звукоразличение), кинестезия (артикулирование звуков), понимание логико-грамматических конструкций, объем слухо-речевого восприятия и памяти и т. п. Но это и дыхание, и мышечный тонус орального аппарата (тела вообще) и т. д. Не будучи сами по себе психическими, все эти конструкты с самой первой минуты жизни ребенка инвариантно участвуют в формировании речевой функции и дисфункции. Ниже мы подробно обсудим роль и значение «пре- и паравербальных» паттернов в онтогенезе. Сейчас лишь акцентируем: первостепенная задача нейропсихолога – описание (оценка) статуса всех факторов, образующих тот или иной вид психической деятельности. Соответственно – выявление нормативных, пораженных, несформированных или регрессирующих ее звеньев во всем их многообразии и, наконец, – системная квалификация полученных данных по всем правилам синдромного анализа.
В целом же синдромный анализ в норме и патологии ориентирован на исследование следующих объектов:
1. Мозговая организация отдельного функционального звена (фактора) конкретной психической функции (фонематический слух, кинестезия, объем восприятия или памяти и т. п.) или процесса (нейродинамика, кинетика, внутри- и межполушарное взаимодействие, пластичность, переключаемость и т. д.).
2. Мозговая организация межфакторных взаимодействий и систем, или частных психических функций (например, пространственное или цветовое восприятие, непосредственная слухоречевая или зрительная, импрессивная или экспрессивная речь, движение и т. д.).
3. Мозговая организация межфункциональных систем (например, опосредствованное запоминание, письмо, счет, мышление и т. п.).
4. Мозговая организация надфункционалъных форм психической деятельности (например, непроизвольное/произвольное запоминание организованного/ неорганизованного семантически слухоречевого/ зрительного материала в состоянии покоя/активности; гностическое/мнестическое или интеллектуальное обеспечение эмоциональных процессов в стрессовой ситуации и т. д.).
Понятие «надфункциональная» отражает тот факт, что существует уникальная, специфическая в каждом случае мозговая организация: а) различных когнитивных систем, б) различных эмоциональных систем, в) стресса и дистресса, различных функциональных состояний и т. д. Поэтому, например, «мозговая организация процессов слухоречевой памяти в стрессовых условиях» подразумевает конгломерат как минимум двух реальностей: мозговой организации слухоречевой памяти и мозговой организации стресса, каждая из которых обладает системно-динамической природой.
5. Мозговая организация целостных поведенческих феноменов (обучение, агрессивное и игровое поведение, творчество и парапсихологические феномены; гиперактивность, психосоматические состояния, шизофрения и т. д.).
Все перечисленные объекты и параметры рассматриваются в их развитии (ранний онтогенез, возраст инволюции, кризисные возрасты и т. п.). Таким образом, в каждом конкретном случае мы обращаемся не только к актуальному нейропсихологическому статусу (в норме и патологии), но и к формированию его мозговой организации на разных отрезках онтогенеза.
Существуют два основных, принципиально различающихся подхода при описании и анализе выявленной феноменологии.
Первый ориентируется на синдромы поражения (функциональной недостаточности, несформированности) мозга, например, «нейропсихологическая синдромология поражения лобных отделов мозга («расщепленного мозга» и т. д.).
Второй – на синдромы нарушения (недостаточности, несформированности) психических функций (поведения) в норме и при разных формах патологии (органических, функциональных, психопатологических). Соответственно нейропсихологическая типология (синдромология) индивидуальных различий, искажений и/или нарушений психической деятельности обозначается как «нейропсихология памяти (речи, письма, счета, пространственных представлений и т. д.)». Это замечание принципиально, потому что довольно часто в исследованиях возникает путаница, связанная с постоянной сменой ориентиров, а это некорректно и не слишком грамотно.
Нейропсихологический синдром – закономерная совокупность, консолидация симптомов (патофеноменов), объединенных общим, единым механизмом – пораженным при патологии, регрессирующим в процессе старения или несформированным в онтогенезе – фактором[2 - В учебном пособии Ю.В. Микадзе «Нейропсихология детского возраста» (2008) определение синдрома не включает понятие фактора. Соответственно и синдромы, и схема нейропсихологического анализа, описываемые им, не имеют ничего общего с луриевскими. Обращаю внимание на это, поскольку автор, таким образом, принципиально не разделяет взгляды А. Р. Лурия, хотя и упоминает в своей работе его имя. Развиваемая им «концепция метасиндрома» строится на «сложении» отдельных, случайным образом объединенных симптомов, не имеющих между собой ничего общего, кроме их констатации в протоколе и рассуждениях автора. Рекомендую также сравнить его понимание функций письма, счета и других ВПФ с соответствующими представлениями А.Р. Лурия и Л.С. Цветковой. Не имею ничего против создания новых научных школ, но корректным представляется все-таки оговорить в таких случаях свою полную непричастность к традициям отечественной нейропсихологии.].
Психологический фактор – главный герой нейропсихологии. Ему посвящены (в явной или неявной форме) все фундаментальные исследования; и это не случайно. Чтобы показать космизм этого механизма, приведу только один пример.
Из нейронаук известен многократно подтвержденный факт, что одним из важнейших факторов, обеспечиваемых мозговой структурой под названием «миндалина», или «амигдала», является выбор между двумя конкурирующими мотивациями. Понятно, что большинство этих исследований было проведено на животных, у которых мотивации в основном обеспечиваются врожденными механизмами. У человека, как известно, таковые дополнены культурно-исторически, то есть выбор идет уже как минимум между тремя-четырьмя мотивациями. Более того, этот выбор всегда предполагает наличие стратегии реализации этих мотиваций. У человека в отличие от животных их две: невербальная, соматогностическая (греч. soma – тело) по своему генезису, обеспечиваемая правым полушарием, и вербальная, речевая (левое полушарие). Следовательно, предыдущая цифра (пусть это будет 3) должна быть удвоена: мы получаем 6. Если же учесть количество взаимодействий между всеми перечисленными системами, то математически это описывается числом 6! (шесть факториал): 6!=6?5?4?3?2=720. Семьсот двадцать операций должна проделать несчастная амигдала, чтобы обеспечить каждому из нас адекватный выбор между мотивациями.
Думаю, что для читателя теперь очевидно, почему сегодня все журналы наполнены статьями о роли амигдалы в формировании шизофрении и других психозов, всевозможных видов патологической агрессии, сексуальных расстройств, депрессии и т. д. В амигдале не «локализованы» все эти формы поведения: ее недостаточность приводит к невозможности адекватного выбора между мотивациями, что и ведет к прогрессивному нарастанию разного рода дезадаптаций человека.
Ясно, что ситуация упрощена до уровня комикса: вообще не указаны цепочки прямых и обратных связей амигдалы с более высокими уровнями мозга и телом. Но и эта цифра, по-моему, впечатляет: ведь мы не все время находимся в субклиническом (клиническом) состоянии… Значит, наш миндалевидный комплекс справляется со своей задачей, реализует свой «индивидуальный талант» – фактор выбора между несколькими мотивациями.
Основой теории и практики синдромного анализа послужили клинические данные. Но последующие разработки показали, что синдромный анализ валиден не только как топический (при локальных поражениях мозга), но и как функциональный подход: для исследования нормативных процессов в рамках нейропсихологии индивидуальных различий, нейропсихологии детского возраста и возраста инволюции. Ведь любой человек может быть описан на языке системно-динамического факторного анализа. То есть через индивидуальный ансамбль адаптивных нейропсихосоматических механизмов, позволяющий ему с большим или меньшим успехом реализоваться в жизни. У каждого из нас факторная организация ВПФ и поведения в целом обеспечивает комплементарность коммуникаций среды, психики, тела и мозга.