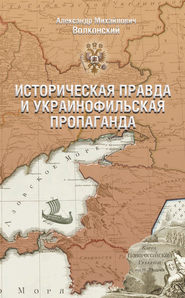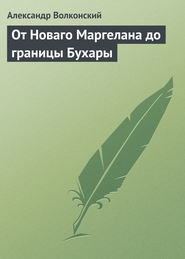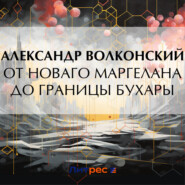По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
От Новаго Маргелана до границы Бухары
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Таковы в общих чертах те немаловажные затруднения, которые встретят деятельность таможенных учреждений на новой линии. Но сама мера имеет настолько важное, не исчерпывающееся интересами одного ведомства, значение, что, вероятно, правительство сумеет изыскать способы так или иначе побороть эти затруднения. Впоследствии, когда мы познакомимся с торговлей Бухары и с её торговыми путями, мы будем иметь возможность дольше остановиться на различных подробностях проектируемой меры. Что касается собственно финансовой стороны вопроса, то она почти всецело зависит от количества привоза товаров, потребляемых в самом ханстве, так как товары, проходящие бухарскую территорию транзитом (кроме идущих в Хиву), и теперь уже подлежат таможенному обложению. Каких-либо определенных данных о размерах этого привоза не существует. Экспедиции не удалось их добыть, и вопрос может выясниться только по занятии берега Аму-Дарьи нашими постами, когда будут вестись точные статистические сведения, которых бухарские сборщики пошлин не имеют. Пока приходится довольствоваться оффициальными сведениями, полученными в политическом агентстве от бухарских властей; сведения эти крайне неопределенны[13 - Насколько шатки показания бухарской торговой статистики, можно видеть, например, из того, что значение встречающейся в её показаниях меры «тай» колеблется между 3 и 8 пудами.] и построенные на них выводы невольно должны носить на себе характер гадательных предположений. Полагают, что новая таможенная линия могла бы дать казне лишний миллион; часть его, однако, имеется в виду оставить, если верить слухам, в распоряжение эмира для ирригационных работ и иных общеполезных предприятий в ханстве.
Первую по доходности статью обложения займет, конечно, чай, потребляемый каждым бухарцем, даже бедняком, в значительном количестве. Всякий, путешествовавший по Бухаре, испытал на себе, какое благодетельное влияние имеет этот напиток в стране, где, за исключением гористых местностей, нет проточной воды и где, за неимением чая, пришлось бы довольствоваться мутной арычной водой, нескольких глотков которой подчас достаточно, чтобы получить злейшую лихорадку. Мне рассказывали, будто эмир, во время своего пребывания в Петербурге, обратил внимание нашего правительства на такое важное значение чая в его стране и выразил желание, чтобы ценность чая не была чрезмерно повышаема пошлиной, так как это могло бы невыгодно отразиться на здоровье вверенного его попечениям народа. Если, кроме чая, мы назовем еще индиго, индийские материи (главным образом кисею для чалм) и разные наркотические вещества, в роде опиума и анаши, то мы перечислим все главнейшие статьи ввоза чрез афганскую границу, так как остальные несложные потребности бухарского народа удовлетворятся либо местными произведениями, либо товарами, приходящими по закаспийской жел. дор., большей частью из России[14 - На основании местных сведений о бухарско-афганской торговле за 1892 г., количество ввоза может быть выражено в следующих приблизительных цифрах. Ввезено в Бухару англо-индийских товаров на сумму ок. 910 000 руб., в том числе: чаю на 615 т. р., индиго на 204 т. р., кисеи английской на 76 т. р. и английского коленкору на 14 т. р.; афганских товаров (шкуры, мерлушки, краски, опиум, кишмиш, фисташки, шерсть, хлопок и т. н.) всего на 960 т. р.].
Будущее покажет, насколько справедливы надежды на доходность новой таможенной линии, а пока вернемся на старую линию, на Исфайрамский переходный пункт, где мои спутники уже проснулись, и где уже началась та шумная и веселая суета, которой неизменно сопровождалось утреннее выступление нашего отряда.
III
Часа два длились сборы; люди еще не приноровились быстро вьючить. В 9 часов мы выступили.
Было чудное, радостное утро. Так же, как вчера, нас сопровождал неумолкающий шум Исфайрама; картины были те же, только скалы росли все выше, и скоро мы увидели впереди первые снежные вершины. Дорога была в отличном состоянии, карнизы нигде не были менее аршина шириной, и мы беспрепятственно подвигались вперед.
В нашем отряде было до 50 лошадей разнообразных местных пород, купленных большей частью в Новом-Маргелане.
В Туркестане что ни местность, то свой сорт лошадей; чуть ли не каждый кишлак славится своей породой. Я близко пригляделся, за время путешествия, к сотням лошадей, наслушался много разговоров на эту тему, и вынесенное мною представление о туземных лошадях, к сожалению, мало соответствовало тому понятию, которое я имел о них до приезда в край.
Из многочисленных так называемых народ (бухарских, самаркандских, башкирских, текинских, киргизских и проч., и проч.) название породы по справедливости может быть прилагаемо только к лошадям ахал-текинского оазиса и к карабаирам (в долине Зеравшана), так как только эти две породы передают поколениям ясно выраженные особенности склада и свои типичные качества. Пожалуй, еще разновидности киргизских степных и горных лошадей можно объединить в одном понятии киргизской породы, так как вы всегда легко отличите низкорослого, приземистого, крайне уродливого и необычайно крепкого киргиза среди сотни других лошадей. Племена текинцев, до последнего времени сохранившие свою независимость, дольше других жили жизнью средне-азиатских хищников, и мне думается, что в этом главная причина устойчивости породы лошадей в их оазисе: постоянные аламаны (набеги) на персов и других соседей заставляли текинца дорожить конем, дорожить качествами своего боевого товарища, быстрота ног которого могла ему доставить лишнего пленника и спасала от погони врагов. Этого побуждения было достаточно, чтобы заставить текинцев выработать приемы соответствующего подбора производителей и правильного воспитания молодняка. Те же причины существовали до умиротворения края с приходом русских и в остальных местностях Средней Азии. С другой стороны, эмиры, ханы и равные полунезависимые беки и «ша» видели в богатом составе конюшни один из главных предметов придворной роскоши; такие конюшни, доходившие до нескольких тысяч голов, естественно подымали ценность хороших лошадей и тем побуждали население в ведению правильного коневодства. Туркестанцы говорят, что вырождение пород идет настолько быстро, что его можно уследить в десятилетний период. Действительно, вполне хорошие лошади становятся так редки, что они известны наперечет не только в том или другом городе, но и во всем крае, и счастливый обладатель такой лошади очень неохотно соглашается продать ее даже за высокую цену, раз в десять превышающую среднюю стоимость порядочного коня.
С водворением русских прекратились постоянные войны между соседями, исчезли с лица земли не только ханские конюшни, но и сами ханы; новых же условий для поддержания коневодства мы создать покуда не сумели: местная администрация не пошла дальше устройства скачек в Самарканде и Ташкенте; государственное коннозаводство сделало в этом отношении еще меньше: по крайней мере, мне никто не мог сказать, было ли когда-нибудь командировано сюда лицо от этого ведомства, хотя бы с целью предварительного исследования туземного коневодства. Ни одного случного пункта, ни одного рассадника породистых жеребцов в крае не существует. Между тем качества здешних лошадей таковы, что их, казалось бы, следовало поддерживать в интересах не одного туркестанского коневодства.
Кому приходилось совершать продолжительное путешествие в крае, тот не мог не оценить незаменимого при походном движении качества здешних лошадей: своеобразного видоизменения аллюров шага и рыси на «ходу» и «тропату». Эти аллюры нельзя считать прирожденными особенностями местных пород, но способность к их развитию, несомненно, им врождена, вследствие искусственной выработки их у предков, в ряду многих поколений. Длинные, обусловленные малонаселенностью страны, переходы были причиной появления ходы, которая больше обыкновенного шага (средняя скорость 7 верст в час) и в то же время менее утомительна для лошади и для всадника, чем рысь. Тропота – видоизмененная рысь, – скорость которой доходит до 18-ти верст в час, особенно дорога восточным людям, так как дозволяет им сохранять свое степенное спокойствие даже при быстрой езде. Некоторую роль в выработке этих аллюров играет, вероятно, чрезмерная тяжесть, которую приходится носить здешним лошадям, прежде даже чем они успели окончательно сложиться: вы нередко встретите двух, трех всадников на одной и той же лошади, а вьюки всегда бывают слишком велики: бедное животное, стремясь избежать толчков от чрезмерного груза, старается ступать как можно плавнее, и в результате его усилий получается своеобразный аллюр.
Указанные мною оригинальные качества туркестанских лошадей свойственны в большей или меньшей степени различным бухарским породам; точно также причины вырождения бухарских пород (в роде гиссарской или бальджуанской) – те же, что вызывают вырождение какой-нибудь мианкальской или уратюбинской породы на нашей территории; поэтому сказанное мною о туркестанских лошадях в равной мере справедливо и по отношению в коневодству Бухары. Это до некоторой степени оправдывает мое отступление в область конских вопросов; тем не менее я воздерживаюсь от дальнейших подробностей на тему, могущую интересовать далеко не всякого читателя. К тому же выражать свое суждение о лошадях всегда рисковало: слушая бесконечные разговоры знатоков-любителей этого дела и видя, как они неизменно считают своей обязанностью по всем пунктам друг другу противоречить, не приходило ли вам, читатель, на ум, что составить себе правильное мнение об этом предмете – задача, принадлежащая к труднейшим проблемам человеческого мышления?!
Скажу только два слова о способе вьюченья, чтобы больше уже не возвращаться в теме о лошадях. Помимо обыкновенного сартовского вьючного седла (похожого на наш кавалерийский ленчик), существует специальное вьючное приспособление («чом»): оно состоит из круглого, толстого, вершков 3-х в диаметре, соломенного жгута, согнутого в форме буквы П. Его короткая, обшитая войлоком сторона имеет выем для холки, на которую она накладывается, а длинные концы, идущие вдоль спины по изгибу ребер, стягиваются бичевкой близ крестца, применительно в ширине крупа; после нескольких дней пути седло под влиянием тяжести принимает форму соответственно строению лошади. Самым удобным подобное седло оказывается когда оно сделано не из соломы, а из слоев войлока; в этом случае оно называется «бухарским» (в отличие от «кашгарскаго»).
Вещи укладываются либо в «ягтаны», либо в «куржумы». Последние представляют из себя парные ковровые или грубой бумажной материи мешки, которые перебрасываются чрез седло; они очень поместительны и пригодны для всякой поклажи, кроме хрупкой посуды. Поверх куржума нередко садится погонщик; местные жители ухитряются сохранять равновесие на таком сидении даже при подъемах на значительные крутизны. Ягтаны – это небольшие кожаные сундуки, около аршина длиной и ? арш. вышиной; ширина их должна быть по возможности меньше (не более 8 вершков), – иначе лошади грозила бы опасность падения на узком карнизе.
Идея этих туземных вьюков очень остроумна; будь на вашем месте практичные немцы или англичане, они бы давно уже выработали различные подробности вьюков, применяясь к европейским потребностям; был бы в точности определен груз, соответствующий силам местной лошади, были бы пригнаны на свое место каждый ремешок и застежка. У нас не так. Не мало нами снаряжалось в этом крае экспедиций, и ученых, и иных, но всегда мы довольствовались в деле вьюченья измышлением туземцев; в результате – факты, подобные тому, который произошел в недавней, пользующейся громкой известностью, экспедиции: до половины обозных лошадей пришлось оставить на дороге вследствие побитых спин; раны издавали такое зловоние, что к табуну трудно было подойти.
IV
Чрез четыре часа, все карнизами вдоль реки, мы, наконец, дошли до площадки, достаточно широкой, чтоб воспользоваться ею для привала… С вьючка, на котором следовали наша столовая и буфет, сняли куржумы, достали из них жестяные чайники и остатки какой-то закуски в виде пирожков и языка довольно сомнительной свежести; затрещал костер, закипела вода в кунганах – высоких медных кувшинах, которые ставят прямо в огонь, – и скоро путешественники, расположившиеся на земле у подножья скалы, могли отдыхать, утоляя жажду чаем; подошли остальные вьюки и направились к висячему мосту, перекинутому чрез реку в нескольких саженях дальше. И караван, извивавшийся змейкой среди каменных глыб дороги, на половину скрывавших собою лошадей, и группа отдыхавших путников, навались такими маленькими, такими ничтожными в тени исполинской скалы… Большой камень, когда-то сорвавшийся с вершины, покоится теперь у её подножья и, прислонившись к стене, образует что-то в роде пещеры, своды которой зачернены копотью: в течение многих веков проходили здесь караваны; быть может, тысячи путников раскладывали свои костры под прикрытием этого камня. Здесь шел лучший путь из Каратегина в кокандское ханство. Но русским он стал известен лишь очень недавно.
Первый образованный европеец, посетивший Алайский (или Южно-Кокандский) хребет и долину Алая и поведавший всему ученому миру об этой таинственной дотоле области, был А. П. Федченко. Не продолжительно было время, проведенное этим ученым в Туркестане, не многочисленны лица, входившие в состав экспедиций, во главе которых он стоял, но добытые им результаты настолько велики, что ставят его имя на ряду с теми, которые составили эпоху в научном исследовании Средней Азии[15 - Мушкетов. Туркестан, т. I, гл. VII.]. Самой важной его экспедицией была поездка на Алай в 1871 г., предпринятая им только вдвоем с женою, иллюстрировавшей его путешествие. В то время еще существовало кокандское царство; в нем правил кровожадный по отношению к своим подданным, подозрительный ко всему русскому Худояр-хан, и жизнь путешественников, впервые проникших в те самые места, которые мы теперь так спокойно проходили, подвергалась ежедневному риску. Из Коканда Федченко направился на юг, к Алайскому хребту, был в долине Нефари, Караказыка и, прорезав хребет тем же путем, как мы, по Исфайрамской долине, вышел на Алай у Дараут-Кургана, где впервые увидал великолепную панораму многоснежного Заалайского хребта, существование которого до этого дня никто не подозревал. Изследовав Алайский хребет на восток до Гульчи, Федченко возвратился северной границей кокандского ханства (Ферганы) в Ташкент. Он не успел поделиться результатами своих драгоценных наблюдений, так как преждевременная смерть скоро похитила этого замечательного человека, посвятившего все свои силы на пользу науки. Его труды заинтересовали весь ученый мир, и целый ряд русских и иностранных ученых специалистов принял участие в разработке и издании собранных им материалов.
Алайский хребет принадлежит вместе с идущим параллельно ему Заалайским хребтом к системе Тянь-Шана; он отделяется от главной её части в юго-восточном углу Ферганы, близь китайской границы, и тянется в прямом направлении на запад, на протяжении более 300 верст. Средняя его высота над уровнем моря 11 000 ф., а над Ферганской долиной – 9500 ф. Шесть путей, длиною ок. 80-ти верст каждый, прорезают хребет с севера на юг, подымаясь из Ферганской долины вдоль горных рек на снежные перевалы и круто спускаясь в долину Алая. Два важнейших из них делят хребет на три, почти равные части: один – тот, что дальше к востоку – идет чрез перевал Талдык и, спустившись в Алай, взбирается чрез Заалайский хребет и в 40 верстах от его гребня достигает озера Кара-Куля на Памире; другой удобный путь – тот, по которому мы шли.
Мы переехали чрез мост и опять стали подыматься и спускаться по карнизам. Партия рабочих, человек в 30, разработывала дорогу под присмотром саперного офицера. Мы разговорились с ним: он провел здесь один в обществе рабочих уже более недели; палатки у него с собой нет, провизия вышла; раздобудут рабочие где-нибудь барана, тогда есть чем пообедать, а не то так и без обеда можно прожить. Расчистка этой дороги производится ежегодно, так как камни и щебень постоянно осыпаются со скал на карнизы. Разработка путей составляет одну из первейших забот нынешней администрации Туркестанского края; выполнение этой задачи, подобно почти всем культурным началам, вносимым русскою властью в эту далекую, полудикую окраину, совершается помощью той же солдатской силы, которая ее покорила.
Трудно передать впечатление того разнообразия, которое глаз подмечает в картинах Алайского хребта: точно движущаяся театральная декорация развертывается пред вашими глазами, ежеминутно меняя свои цвета и очертанья, несмотря на то, что это все та же дикая природа, все те же лишенные признаков человеческой жизни, безлесные, голые скалы. Вот поднимается отвесная скала; подобная стене, воздвигнутой гигантами, она изборождена глубокими морщинами, отделяющими мощные, саженной толщины, пласты гранита; река омывает её подножье. Потом горы отходят от реки, и вода бежит между глинистых, кирпичного цвета берегов, а дальше поток то пенится по камням порогов, то шумит, ниспадая водопадом… Карниз проложен по каменистой осыпи: когда-то здесь обрушилась часть скалы и, разбившись на миллионы обломков, легла от верхнего края гор до дна реки покатой плоскостью, узкою в своей далекой вершине, что уперлась в расщелину двух соседей-утесов, широкою в том месте, где мы ее пересекаем по карнизу, еще шире под нами, там внизу, на дне реки… А дальше, где-нибудь высоко-высоко, на самом верхнем краю скалы выделяется на голубом небе одинокое дерево, и думаешь сперва, что это былинка, а не дерево: так оно далеко и таким маленьким кажется… Кругом все пустынно и мрачно; только иногда, у крутого поворота реки, где вода, в течение веков подрывая глину берегового обрыва, отошла от противоположного берега, видишь в укромном уголке покинутого течением речного дна две-три березы, и в тени их какие-то желтые цветы, приветливо пестреющие среди сочной травы.
Жара спадала, стал накрапывать дождь и покрыл мелкою сеткой окрестные горы. У меня нет ничего с собою, чем бы укрыться; хочу переждать дождь за высоким камнем. Один за другим проезжают мимо меня мои спутники, укутанные кто в бурку, кто в европейское пальто, а дождь льет все сильнее и сильнее. Накрывшись попоной, направляюсь дальше по тропинке, которая, не находя себе места на одном склоне, беспрестанно перебирается на другой берег по перекинутым чрез поток мостикам. Вон за одним из них поднимается на кручу вереница всадников: точно в театре, где на нескольких саженях хотят дать иллюзию долгого подъема, так они идут, извиваясь змейкой по таким частым зигзагам, что кажется, будто всадники, идущие сзади, своими головами касаются ног впереди идущих лошадей…
Дождь прошел. Тяжело дыша, с трудом поднимается моя лошадь среди лоснящихся, омытых дождем камней. Я слезаю, чтоб облегчить ей подъем; тропинка так узка, что рядом не пройдешь; иду сзади, держа повод в вытянутой руке; лошадь дернула, повод выскользнул, и я тщетно стараюсь догнать ушедшую вперед лошадь: так круто, что более минуты нет сил подыматься без отдыха. Положение для всадника комичное, но опасное для лошади: я увидал ее чрез несколько минут впереди и выше меня; она бежала рысью по горизонтальному карнизу, задрав голову, повернутую к стороне пропасти; повод болтался; наступи она на него – она бы спотыкнулась и покончила свои дни…
Уже смеркалось когда мы стали спускаться в небольшую долину, затерянную среди гор; густой вечерний туман поднимался с пропитанной сыростью почвы, стелясь по земле, как дым от орудийных выстрелов; в тумане мы различили круглые своды юрт, предназначенных для нашей ночевки. Их было всего три, – слишком мало для довольно многочисленной партии, – но и эти три юрты были доставлены сюда не без затруднений, так как, за неимением верблюдов, их пришлось навьючить на лошадей; требуется до пяти лошадей, чтоб поднять даже такую маленькую юрту, как те, что были приготовлены для нас волостным алайских киргизов в урочище Лянгар.
Обыкновенных размеров юрта свободно навьючивается на одного, верблюда: большие четырех-угольные куски войлока (кошмы), покрывающие её деревянный остов, кладутся на спину животного; поверх их помещается самый остов – складная решетка из прутьев, служащая стеной этого остроумного здания, при чем образует что-то в роде платформы, на которой иной раз восседает супруга владельца верблюда, окруженная ребятишками и всяким скарбом; третья часть юрты, её свод, состоит из выгнутых прутьев, нижние концы которых привязываются к краям решетчатой стенки, а верхние соединяются в центре свода, упираясь в края обода, служащего в то же время дымовым отверстием. Весь этот свод в разобранном виде, связанный в один пучок прутьев, также находит свое место на спине верблюда. Если вам придется провести несколько дней среди кочевников, вы скоро освоитесь с их жилищем, и, привыкнув сидеть на войлоках, которые расстилаются на земле, вы найдете в нем своеобразную прелесть. Только вот в дождливую погоду оно не совсем приятно тем запахом промокшей кошмы, который встретил и меня, когда, согнувшись в три дуги, я входил в нисенькую дверь одной из юрт, где и застал моих спутников среди оживленных разговоров.
Промокшие и озябшие, сидели мы в ожидании прибытия вьюков с сухой одеждой и рассказывали друг другу свои дорожные приключения. Не стану передавать всех этих рассказов, – скажу только, что главную роль в них играла лошадь, ибо все путешествие проходит в постоянном уходе за своим конем: то надо вытащить застрявший в копыте камешек; то подкова начинает хлябать на таком крутом спуске, где это по меньшей мере некстати; то, утоляя жажду из горного ручья, лошадь с водою втянет в рот пиявку, и на привале приходится избавлять ее от этого кровопийцы при помощи палки, просунутой между челюстями…
– А у меня каска слетела вниз, когда я ехал по откосу осыпи, – рассказывает один из спутников, не изведавший ранее горных путешествий и весьма дороживший своим английским пробковым шлемом: – слетела вниз, вижу – не слишком круто, я за ней хотел спуститься, сделал шаг, – а камни под ногами так и поползли; тогда я сел и скатился на камнях, точно на салазках…
– И вы остались целы?.. Ну, так благодарите судьбу и другой раз не пробуйте, а не то вас так и засыплет камнями… и хоронить не надо будет…
Не успел новичок выразить свое удивление, как плетеная занавесь, закрывавшая дверь юрты, приподнялась.
– Господа, обед готов! – радостно провозгласил кто-то при виде входящего в юрту джигита с блюдом баранины. Разговоры прекратились, каждый постарался устроиться поудобнее, главное – поближе к блюду, и все занялись едой. Чувствуется большой недостаток в ножах и вилках; приходится запастись немалой долей терпения…
– Иван Петрович, вон рядом с вами лежит ножичек, – говорит кто-нибудь, желая этим уменьшительным именем скрыть свое нервное нетерпенье, и Иван Петрович любезно передает ему просимое, внутренно крайне недовольный, что его уже третий раз беспокоят и не дают справиться с изрядным ломтем баранины.
Голод утолен, и путешественники, один за другим, вынимают книжечки и начинают при свете огарка записывать события дня. Все заносится в эти книжечки: и часы привалов, и число мостов, и цвет небес, и то, что среди горных пород попадаются сиониты, и то, что у повстречавшейся нам старушки-киргизки лицо не было покрыто фатой, и высота показаний анероида. Почти все записывают; записываю и я. «Так себе, для памяти», – отвечаешь на вопрос о цели дневника, но должно быть, подобно мне, все чувствуют, что каждый втайне лелеет смутную надежду превратить когда-нибудь свои записки в печатную статью, и под сводом окутанной мраком юрты носится дух таинственной и довольно забавной конкурренции…
На дворе шум… Выхожу из тепла юрты на вечернюю свежесть и сырость, дождь льет. Вьюки пришли… развязали веревки, внесли ягтаны и чрез ? часа в юрте настала тишина… Потом и на дворе превратился шум, смолкли голоса джигитов, и было слышно только, как лил безостановочно дождь и как привязанные в колышкам сонные лошади переступали копытами в промокшей мураве; но и этот звук доходил сквозь стенку юрты как-то особенно, и чувствовалась какая-то отрешенность от внешнего мира, точно когда в вагоне слышишь ночью сквозь стекла окон отрывочный разговор и шаги на станционной платформе…
Весь следующий день прошел в безостановочном подъеме на перевал Тенгиз-Бай. Мы вступили в другой климат; температура днем едва достигала 20° К, в вечеру спустилась до 7. Мы были в поясе арчи; это красивое дерево (яловец, Inniperus pseudosabina), с белым, крученым, точно канат, стволом, с темной хвойной зеленью, принадлежит в породе можжевеловых и ростет на высоте 1500–3000 мет. Некогда горы, окружающие долину Ферганы, были покрыты обильными лесами, питавшими теперь высохшие реки; но леса, истребляемые в течение веков кочевниками, исчезли, и в наше время арча – единственное дерево, ростущее здесь в достаточном изобилии, чтобы образовать нечто в роде рощ, правда, очень негустых. Несмотря на все меры, принимаемые нашей администрацией, гибель лесов в горах Туркестана идет с ужасающей быстротой; не избегнет, вероятно, общей участи и арча, которую углепромышленники безжалостно рубят, чтобы получить из целого дерева (весом пудов в 20) менее одного пуда угля. Из арчи сделаны также многочисленные мосты, переброшенные чрез р. Исфайрам, которая на этой высоте представляет из себя узкий горный поток все с более и более крутым падением, среди крупных каменных (и нередко мраморных) глыб.
Устройство этих мостов очень незамысловато: два выступа, сложенные из камней, иногда с промежуточными слоями древесных кольев, выдвигаются от каждого берега на встречу друг другу настолько близко, чтобы ширина пролета между ними не превышала длины переброшенного чрез него бревна; настилка аршина 1? шириною состоит из жердей, присыпанных землей. Получается мост вполне крепкий и надежный, несмотря на его воздушный вид. Такие же мосты, но лишь в большем масштабе, встречались нам на бухарской территории чрез довольно широкия реки; там колья в береговых выступах заменены целыми бревнами, каждый верхний ряд которых выступает над нижним дальше к середине реки; длина одного бревна оказывается уже недостаточной, чтобы замкнуть пролет, и для этой цели приходится связать два, три дерева, служащие продолжением одно другого. Во всей постройке нет ни одного гвоздя, и крупные бревна связаны помощью хворостин. Очевидно, такой мост при значительной длине (до 30–40 шагов) не отличается особенной устойчивостью: когда по нем едешь шагом, он качается, как рессорный экипаж, и в длину и по линии поперечника; это двойное качание при большой высоте над уровнем реки настолько неприятно, что даже туземцы считают нужном слезать и проводить лошадей в поводу.
Мы все поднимались; на одном повороте я оглянулся: позади меня сумрачно-лиловые скалы сдвинулись глубоким амфитеатром; свинцовые облака нависли над ними тяжелой крышей; а впереди, надо мною, ничего не было видно, кроме вырисовавшегося на чистом небе края горы, по которой я взбирался. Казалось, еще несколько сажен, и я на вершине перевала, но доберешься до краю, а там неожиданно седловина и снова подъем.
Наконец, к вечеру мы достигли унылой, безжизненной поляны у подножья горы, подобной огромному кургану: путь через нее и есть перевал Тенгиз-Бай; по ту сторону начинается спуск по южному склону Алайского хребта в долину Алая. Кругом стояли снежные вершины. Здесь мы провели ночь в юртах.
Сильный холод заставил нас рано проснуться на другой день: было 6° тепла, но после недавних 40-градусных жаров нам казалось, будто это было осеннее утро; разреженный горный воздух был свеж и живительной струей вливался в грудь.
Три четверти часа подъема – и мы на вершине перевала, на высоте 11 800 фут. Дул холодный ветер. «В прошлом году, – рассказывает мне спутник, с которым мы остановились, чтобы записать показания барометра, – я был здесь двумя неделями раньше, и все уже было занесено снегом». Теперь снег лежал небольшими пятнами в складках косогора; едва заметный зарождающийся ручеек протекал вдоль дороги. Спуск очень крут, и скоро мы опять очутились среди скал; снова появилась растительность, сперва в виде жалких, стелющихся по земле экземпляров арчи, ниже – в виде кустов рябины и берез. Ручеек превращается в шумный потов (Кара-Джилги), дорога врезается все глубже в ущелье и близь впадения речки Шиман входит в Дараутскую теснину: две совершенно отвесные гранитные скалы сближаются между собою, оставляя путнику лишь узкий, в 12 шагов шириною, проход, на половину занятый течением реки. Подобные места опасны в непогоду, когда быстро поднявшиеся воды ручьев, ворвавшись в теснину, могут унести с собою целые караваны.
Еще верст 10 по хорошо разработанному карнизу, проложенному то чрез черные осыпи грифельных сланцев, то в полутьме извилистого коридора, – и к полудню мы увидели в конце теснины просвет: горы расступились, и нашим глазам представился залитый солнцем простор Алайской долины; по ту сторону её, на том берегу «красноводной» реки, за гладью зеленых лугов, прорезав белоснежные облака, уходили в небесную высь снеговые вершины Заалая.
V
Слово «алай» значит «рай» по-каракиргизски; этим именем киргизы называют долину, заключенную между двух почти параллельных хребтов – Южно-Кокандским и Заахаем.
Долина эта со времени Федченко, открывшего ее, заинтересовала геологов вопросом о своем происхождении: одни полагают, что в былое время ее заполняло ледниковое море, что, позднее, она служила дном нагорному озеру; другие, – отрицающие существование ледникового периода на Памирском плоскогорье, объясняют образование долины действием речных вод, размывших мягкия породы окрестных гор; но все согласны, что Алай представляет типичный пример высоко поднятых над уровнем моря продольных долин, характеризующих систему Тянь-Шана и Памира.
Долина тянется в широтном направлении на протяжении 120 верст, равномерно поднимаясь с 8000 ф. на западном конце до 12 000 у своего верховья; ширина её остается почти та же на всем протяжении и не превышает 40 верст. Верховья долины находятся на том горном узде, который, связывая Заалай, Алайский и Ферганский хребты, образует водораздел трех бассейнов: на север текут притоки Сыр-Дарьи в Ферганскую долину, на восток и на запад две одноименные реки, два Кызыл-Су стекают с вершины водораздела; первый, спустившись в долину Кашгара и приняв имя Кашгар-Дарьи, впадает в Тарим, чтобы исчезнуть в пустынных песках Центральной Азии, другой – западный Кызыл-Су течет по Алайской долине, придерживаясь северной её грани – подножья Алайского хребта – и делится на многочисленные рукава, изрезывающие дно долины причудливым узором. Пройдя 400 верст по бухарской земле, алайский Кызыл-Су, под именем Вахша, соединяется с памирской рекой Пянджем; их соединенное русло получает название Аму-Дарьи.
Южная грань Алая – это громадный стоверстный Заалайский хребет, поднимающийся в среднем на 18 т. ф.; начиная с 13 т. ф., он покрыт вечным снегом; на восточном конце гордо возвышается первая по высоте на всем Тян-Шане вершина Гурумды; а в средней его части поднимается на высоту 23 000 фут пик, носящий имя памятного в истории Туркестанского края К. П. Кауфмана. В противоположность Южно-Кокандскому хребту с его многочисленными перевалами, Заалай проходим только в двух местах: чрез перевалы Кизыл-Арт (на высоте 14 т. ф.) и Терс-Агар (16 т.). О первом из них, ведущем к северному берегу озера Кара-Куль, мы уже упоминали: этим путем поднялся на Памир отряд Скобелева, в 1876 г.; этот же путь избрала последняя памирская экспедиция 1892 г.; другой перевал, лежащий в западной части долины, прямо против Дараут-Курганского ущелья, ведет в малоизследованную местность верховьев реки Мук-Су, вытекающей из ледника Федченко, среднее течение которой еще на нанесено на карту.
Таково географическое положение Алая. Бедным, не избалованным щедротами природы киргизам, эта долина, с сочной травой, с многоводной рекой, прорезывающей ее в длину, и обилием ручьев, ниспадающих по склонам обоих гигантских горных кряжей, действительно должна казаться раем. Это любимое место летних кочевок многочисленных киргизских родов (тогай, теит, монгуш, адыгин, ичкилик), приходящих сюда из ошского, андижанского и маргеланского уездов Ферганы. В июне, июле и августе собирается здесь до 15 т. семей, откармливающих на просторе алайских лугов свой рогатый скот и овец; количество скота достигает 500 000 голов; встречаются одногорбые верблюды, но изредка, по нескольку штук у самых богатых хозяев. С половины августа кочевники начинают возвращаться в свои зимовки, долина постепенно пустеет, и зимою глубокий снег покрывает сплошным саваном мертвую долину. Только в низовьях её жизнь продолжается круглый год: в боковых ущельях (верст на 20 по обе стороны от Дараут-Бургана) разбросаны жалкия сакли, в которых укрываются на зиму от непогоды около 150 семейств колена Найман вместе со своими стадами. Кроме баранов, главного богатства кочевников, у этих киргизов водятся яки, трудно укротимое домашнее животное, весьма ценимое киргизами, и как вьючная сила, и как скот, доставляющий молоко, шерсть и крепкую, толщиною в палец, шкуру, продаваемую ими в Фергану по 2 р. 50 к. за пуд. Из длинной шерсти яка и пушистого хвоста плетутся мягкия веревки для вьюков и лучшие подпруги. Зимою яки уходят в горы, верст за 20 от жилищ своих хозяев, и пасутся там, пробивая крепкими копытами снег и даже лед.
Земледелие в Алайской долине возможно в весьма незначительном размере, лишь в низовье её, в районе, занятом оседлыми киргизами, которые сеют ячмень и пшеницу; верст 35 выше Дараут-Бургана (близь урочища Газ) уже прекращается культурная полоса, ибо за краткостью лета хлеб не успевает дозреть.
Известно, что в настоящее время в Ферганской долине вовсе нет свободных культурных земель для заселения их выходцами из коренной России; администрация, стремясь увеличить численность русского элемента в крае, естественно должна была обратить внимание на долину Алая, как на местность, с первого взгляда отвечающую подобной цели. В предположении, что на Алае можно иметь до 60 000 десятин пригодной для хлебопашества земли, выработали проект заселения их казаками; при этом имелось в виду со временем создать алайское казачье войско, которое служило бы оплотом в деле охранения памирских границ от нарушения со стороны соседей и тем делало бы нелишним содержание дорого стоющего постоянного отряда регулярного войска на Памире. Проект этот, если не ошибаюсь, и теперь еще не оставлен, но, в виду указанных выше ничтожных размеров культуро-способной площади в долине, надо предполагать, что его осуществление встретит значительное затруднение; по крайней мере люди, изъездившие долину во всех направлениях, знакомые со всеми её уголками, говорят, что поселить в ней можно не более 1000 семейств; остальным пришлось бы существовать покупным хлебом.
Помимо кибиток номадов и саклей оседлых киргизов есть, в пределах Алая более важное поселение; это лежащая при истоках китайского Кызыл-Су, на самой границе двух империй, крепость Иркештам; 30 человек казаков при одном офицере – вот весь немногочисленный гарнизон её, призванной, в случае нужды, напомнить соседней державе о величии русского имени. Тут же, рядом с крепостью, находится иркештамский таможенный пункт, имеющий важное значение, так как в нем сосредоточивается, согласно договору с Китаем, все торговое движение между Кашгаром и Ферганой, иными словами, почти вся торговля Китая с нашими туркестанскими владениями.
Таможенный надзор в Алае этим не ограничивается: в летнее время выставляется пост при выходе дороги с Памиров, под перевалом Кызыл-Арт (в м. Бар-Даба); кроме того существует летучий отряд стражников, оберегающий доступ в западную часть долины. С учреждением бухарско-афганской таможенной линии эти меры охранения окажутся нелишними: с запада, чрез Каратегин, товары не будут иметь возможность проникнуть, так как все бухарское ханство будет включено в пределы таможенной черты; ожидать же, что значительная контрабанда проложить себе путь с юга, чрез Памир, нет основания, ибо вряд ли найдется много охотников сделать 300–400 верст среди памирских гор, ради того, чтобы пронести на своей спине пять, шесть пудов индийского чая или несколько свертков кисеи. Путешествие в горах Средней Азии, до которых еще не коснулась рука европейского рабочего, не есть легко совершаемая прогулка, особенно для контрабандиста, принужденного искать иных путей, кроме всем доступных тропинок. Только традиционный страх Англии за целость драгоценного ей Индостана может породить представление о легкости движения через море гор, именуемое Памиром. Гордый сын Альбиона, жестокий в своем презрении к подвластной расе, начинает сознавать, что зашел за пределы возможного в притеснении индуских племен, и, боясь России, сильной своей любовью к племенам востока, он обращает беспокойный взор на север: в его боязливом воображении из-за высочайших в мире гор встает её могучий призрак и он уже видит воинов «белого царя», беспрепятственно, как снежная лавина, спускающихся с памирских высей на помощь угнетенным, к берегам священных рек…